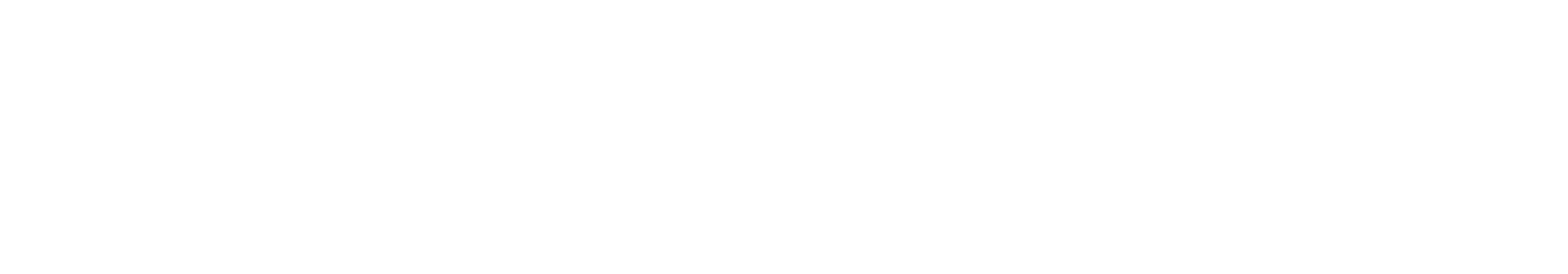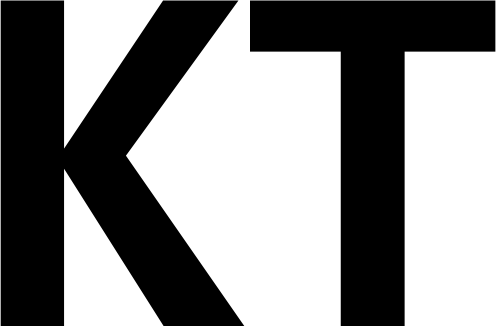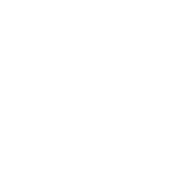РЕВИЗИОНИЗМ В ВЕСТЕРНАХ: ЗАКАТНЫЙ БАГРЯНЕЦ НА ЗАПАДЕ
История о воскрешении через насилие и грязь. Скромный путеводитель по самым ярким представителям американского вестерна эпохи бурного ревизионизма
РЕВИЗИОНИЗМ В ВЕСТЕРНАХ: ЗАКАТНЫЙ БАГРЯНЕЦ НА ЗАПАДЕ
«Не следует считать, будто жизнь тьмы объята страданием и потеряна, словно в скорби. Скорби нет. Ибо печаль поглощена смертью, а смерть и умирание и есть жизнь тьмы».
Якоб Беме
Примерно треть суток уходит на то, чтобы нагнать и щедро накормить свинцом особо шустрого бизона. Пули, выпущенные из потертого, но дорогого сердцу семьдесят третьего «винчестера», изрядно подпортили шкуру, однако пару баксов у местного торговца пушниной за нее выручить получится. Хватить должно и на сонную дозу виски, и на «аудиенцию» с малышкой Мэри-Бет родом из Небраски — большего одинокому трапперу для счастья и не нужно.
Осталось-то всего ничего — добраться до близлежащего городка. Плюс-минус пара часов сверху, и вот он — островок цивилизации посреди океана беззакония. Скопище хлипких деревянных домишек, в стенах которых усталые путники могут пропустить по стаканчику, послушать сплетни и помучить Фортуну за карточным столом. Попомните мои слова: азартные игры позволяют мозгам не забродить раньше времени. Да и приумножить богатства, выуженные за реализацию бизоньего меха, бывалый траппер никогда не откажется.
Цент за центом, рюмка за рюмкой, и рядовая партия в покер перерастает в потасовку на десять физиономий. Благо, что здешний маршал всегда умел находить аргументы для усмирения пьяной толпы. Насчитывается этих аргументов, как правило, шесть штук, и все они заряжены в барабан «кольта» армейского образца — верещат громко и вмиг валят несогласных с буквой закона наповал.
Теперь-то перебравшему трапперу, равно как и его недавним собутыльникам, придется провести ночь в холодной камере. Одному лишь Всевышнему известно, успеет ли он протрезветь к первым петухам, однако одно останется неизменным: хрустящих долларов уже не вернуть, а тот самый «винчестер» был под шумок вынесен из салуна случайным забулдыгой. А ведь из этой винтовки палили по индейцам племени лакота во время битвы при Литл-Бигхорн…
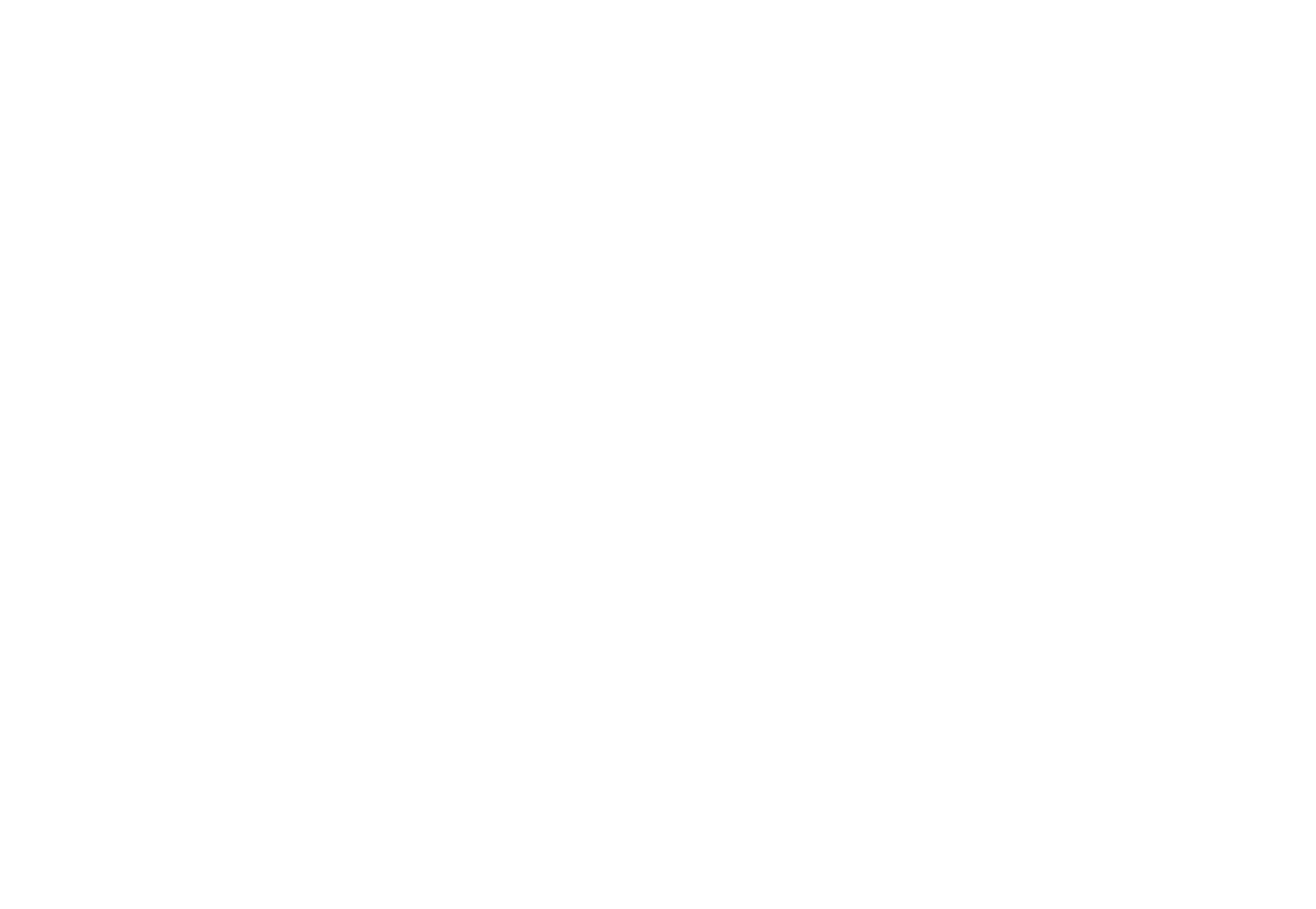
ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ
Не то чтобы очень давно, всего лишь двести лет назад, типичному американцу приходилось мирится с мыслью о том, что окружающие его земли ни ему самому, ни его народу полноправно не принадлежат. Плодородные почвы и безграничные возможности для промысла не могли не радовать душу пилигрима, в поисках лучшей жизни решившего ступить на извилистую Орегонскую тропу. Однако племена индейцев и бродячие бандиты имели на этот счет диаметрально противоположное мнение. Завоевание фронтира — это многолетняя хроника зарождения американского бессознательного, борьба примитивного и новаторского, которая нашла свое отражение во всех сферах искусства, в том числе и в кинематографе.
Киношные вестерны прошли тернистый путь стилистических деформаций, начиная с немых фильмов про ограбления торговых поездов и заканчивая эпическими экранными летописями освоения целины в глубине континента, пик развития которых пришелся на годы Золотого века Голливуда. Лубочные каноны приключенческих лент о быте смельчаков, сводящих концы с концами на окраинах американской ойкумены, стремительно прижились в национальной кинотрадиции. Каких только историй не показывали потомкам вчерашних бутлегеров, пережившим Великую Депрессию: живописные притчи о похождениях лихих ковбоев в «Искателях» и «Дилижансе» Джона Форда, жизнеописания бравых легавых и охотников за головами из «Ровно в полдень» Фреда Циннемана и «Обнаженной шпоры» Энтони Манна, зрелищные перестрелки в «Великолепной семерке» Джона Стерджеса и вдохновляющее роуд-муви в «Красной реке» Говарда Хоукса.
Однако романтизация обихода харизматичных колонистов не могла продолжаться бесконечно. С наступлением психоделических шестидесятых парадигма классического вестерна начала трещать по швам, то ли из-за отмены кодекса Хейса, то ли из-за социальных потрясений, спровоцированных войной во Вьетнаме и накрывшей страну волной хиппи. Студийные режиссеры более не могли подогревать интерес публики осточертевшими «казаками-разбойниками» в сеттинге Дикого Запада, поэтому за дело взялись охочие до экспериментов новички — «беспечные ездоки» и «бешеные быки» Нового Голливуда, ставившие ребром вопросы, немыслимые в картинах тридцатых или пятидесятых годов. Затянувшийся жанровый цугцванг обернулся оглушительным гамбитом, а законы вестернов «старой школы» подверглись ревизии.
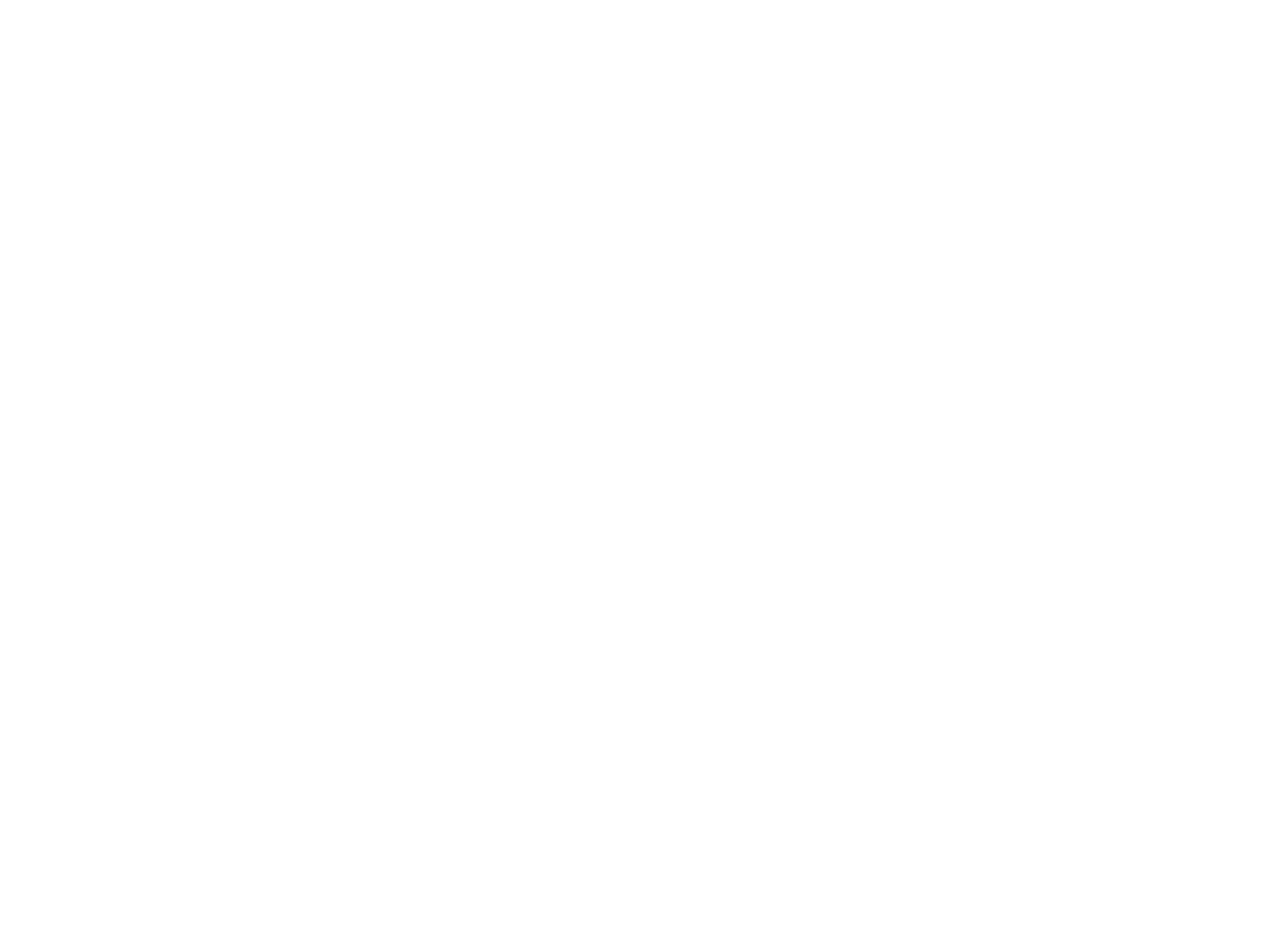
УКОРАМ СТАРИКОВ С УВАЖЕНИЕМ ВНЕМЛИТЕ
Аскетичные движения камеры, противопоставление пустынных пейзажей Аризоны и Техаса отдающим фальшивостью архетипам «американских конкистадоров», размеренный темп повествования и обязательный Джон Уэйн на главных ролях — вестерн Форда столь же легок в прочтении, сколь и по-литературному архаичен. Режиссер придерживался постановочного минимализма и редко ступал на территорию серо-серой морали, ни при обращении к теме кавалеристов времен Гражданской войны в «Форте Апачи», ни на съемках традиционной истории мести в «Моей дорогой Клеменитне».
Возможно, именно по этой причине вышедшего в 1962 году «Человека, который застрелил Либерти Вэланса» загнобила профильная критика. Сияющие лица Джона Уэйна и Джеймса Стюарта вместе со старомодной черно-белой картинкой с головой выдавали классического Форда, вновь мусолящего темы поколенческих противоречий в декорациях Богом забытого городка на отшибе цивилизации.
Неудобная басня, главными героями которой стали консервативный ковбой и наивный идеалист с дипломом юриста, преисполнена пессимизмом и элегичностью. Первый персонаж олицетворяет кодекс чести, написанный кровью и потом грозных первопоселенцев; второй — пиршество гуманизма и гражданской ответственности. Ни веяния олдскула, ни устаревший киноязык Форда не в силах скрыть беспробудную тоску, которую испытывает постановщик, уверенно выкапывающий могилу собственным убеждениям. Романтический героизм, присущий ранним произведениям про Дикий Запад, здесь не просто подвергается сомнению, но и обрушивается под весом сквозной мифологии, формировавшей внешний вид популярных вестернов на протяжении долгих десятилетий.
«Это Америка. Мы не будем печатать правду, мы будем печатать легенду», — ближе к финалу заключают персонажи «Либерти Вэланса», чем косвенно подтверждают опасения Форда об истинной цене правды перед лицом народного мифа. Суровая идеология фронтира давно уступила место законности и коллективизму, а добродушный пацифист с почти детским мировосприятием оказывается более нужным для общества самаритянином, нежели суровый вольный стрелок, признающий исключительно язык силы. Мнимый хэппи-энд этой истории, выполненной в формате обличающего флэшбека, лишь подчеркивает беспощадный фатализм позднего Джона Форда, эмоции которого обращены к эпохе инфантильного ковбойского кино, но разум все равно осознает, что старый-добрый Запад XIX века есть не время легендарных героев, а период произвола и двуличия.
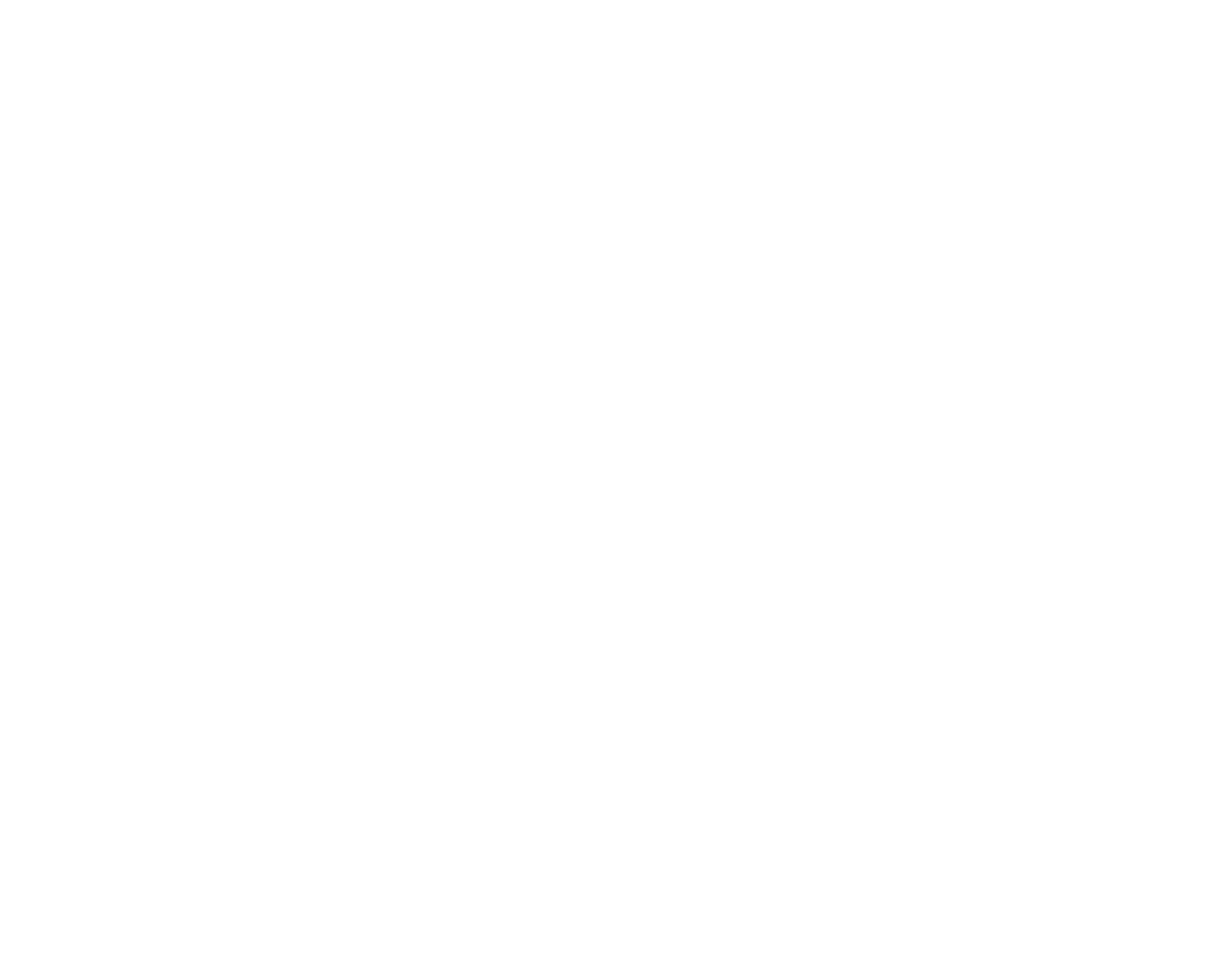
ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЩИТИТЬСЯ — БУНТОВАТЬ
Самым примечательным пунктом его фильмографии стала «Дикая банда» 1969 года — самый ревизионистский в пантеоне великих анти-вестерн, с головы до пят пропитанный нигилизмом и вдоль и поперек исполосованными образами отморозков с большой дороги. Пекинпа, чуть ранее выпустивший нашумевшего «Майора Данди», прославился не только как любитель опрокидывать за воротник ради облегчения производственного процесса, но и как ярый противник экранного лоска. Его герои — отменные ублюдки, окончательно потерявшие человеческий облик, в резких монтажных склейках балом правит чрезмерная жестокость и бешеная динамика, а ничем, на первый взгляд, не примечательный сюжет о разбойниках с непреодолимой жаждой наживы пронизывает грубый символизм.
Безысходность, кровь и старое-доброе ультранасилие — вот главные спутники персонажей «Дикой банды» — шайки эталонных налетчиков старой закалки, кое-как доживающих свой век в самый разгар мексиканской революции. На дворе 1913 год: по проселочным улочкам вовсю рассекают автомобили производства концерна «Ford», на смену фактурным револьверам пришли самозарядные «браунинги», а фронтир, упраздненный эдак два десятилетия назад, ныне не представляет собой пустошь с плотностью населения три человека на квадратный километр. Лицезревшие губительный для их профессии прогресс горе-грабители тщетно кочуют по пограничным территориям и предаются воровскому ремеслу, не желая замечать, что по ним колокол давным-давно отзвенел. Америка изменилась. Отныне кроткие чествуют не благородных ганслингеров, а индустриальных магнатов. Как ни крути, а вторые щедро одаривают рабочими местами и обнадеживают верой в светлую американскую мечту, когда первые лишь используют простых смертных в качестве живого щита во время заварушек с законниками.
Не стоит ждать от «Дикой банды» фресочной саги о мужественности и добродетели. Объектив кинокамеры под кураторством Пекинпы смакует агонию и разложение, демонстрируя чрезмерно натуралистичное насилие и в побоищах, и в донельзя нахальных диалогах. Недаром по Голливуду ходили слухи, что на премьерном показе фильма где-то полдюжины зрителей рассталось со съеденным обедом во время первой же батальной сцены. Сняты эти сцены, стоит заметить, мастерски, с применением рапида и небывалым по меркам того времени количеством монтажных склеек (в общей сложности более трех с половиной тысяч). Эти же эпизоды перемежаются контрастными бытовыми зарисовками: рыская в толпе мексиканских инсургентов, камера вычленяет в столпотворении вооруженных латиноамериканцев кормящую грудничка мать с перекинутым через плечо увесистым патронташем, а белые детишки по другую сторону границы стравливают скорпионов с красными муравьями, что перекликается с судьбой главных героев — загнанных в угол хищников, бессильных перед лицом дня сегодняшнего.
Чуть позже, в мае 1970-го, Пекинпа выпускает в свет «Балладу о Кэйбле Хоге» — мелодраматичную трагедию золотоискателя, пережившего предательство со стороны вчерашних коллег. Этот фильм существует как антипод идей «Дикой банды»: меньше грязи, меньше жестокости, больше ощущения светлой тоски, что неспешно крадется к главному герою по залитым солнцем пустынным территориям близ новообразованного селения Кэйбл-Спрингс. Как и «Скачки по высокогорью» 1962 года, эта лента продолжает традицию режиссера по «мирной деконструкции» универсума умирающего Дикого Запада. Но, что куда важнее, производственные дилеммы, повсеместно возникавшие на съемках «Кэйбла Хога» (многонедельная прокрастинация съемочной группы в местном баре забрала из бюджета порядка семидесяти тысяч долларов), раззадорили Пекинпу и вернули его мировосприятие в русло мрачного реализма.
Денегация фольклорного величия дуэта реально существующих головорезов старого Запада, пропущенная через звуки кантри и минорного рок-н-ролла от Боба Дилана, произошла в 1973 году с выходом «Пэта Гэрретта и Билли Кида» — последнего вестерна Пекинпы. Хрестоматийные персонажи авантюрной криминальной хроники сталкиваются с кислотной меланхолией шестидесятых. Кровавые убийства, стремительный перекрестный монтаж, трупы людей и животных, ниц опадающих перед камерой в слоу-мо, и присущая прошлым работам Пекинпа визуальная поэтика — дружище Сэм вернулся на большую сцену, дабы вновь перевернуть классику с ног на голову. Если «Дикая банда» явилась безоговорочной констатацией смерти мифа о славном «робингудстве» на пустошах Юга, то «Гэрретт и Кид» — это амбулаторная карточка, в которой более подробно описана история болезни, поразившей не только кино о «героях кольта и фронтира», но и кинематографическую традицию, властвовавшую в Фабрике Грез до прихода пионеров эры Нового Голливуда.
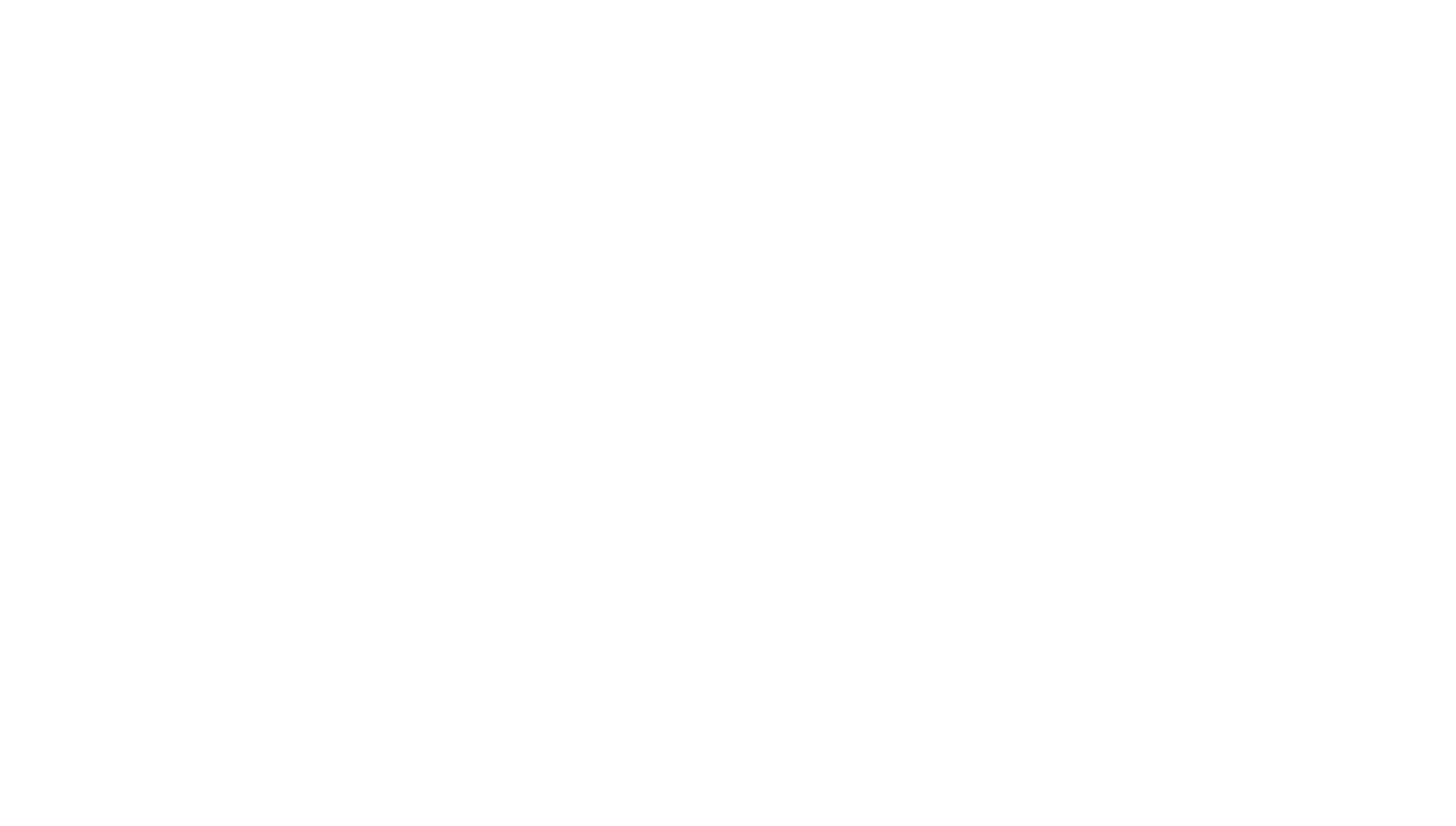
ГУБИТЕЛЕН ГНЕВ РАБОВ
Прямиком из той же декады на связь выходит младший из братьев Манкевич, ответственный за тюремную сатиру «Жил-был обманщик» с Кирком Дугласом и Генри Фондой. История о тонкостях мотания срока в реалиях полупародийного вестерна не была бы так убедительна, если бы не пропитанный ненавистью и насилием третий акт картины, способный обескуражить и зарядить желчной иронией. Адская смесь из криминального трагифарса и злого стеба над извечной истиной, что, мол «люди не меняются», работает как динамитная шашка с неприлично длинным бикфордовым шнуром. Сколь же неохотно разгорается фитиль, столь оглушающим получается взрыв, поджидающий зрителя поодаль от финальных титров.
В конфронтацию между ветхозаветным вестерном и деструктивными веяниями независимого кино новой формации вступил и Клинт Иствуд. Будучи главной звездой итальянского спагетти-вестерна, этот небритый доходяга с извечным грозным прищуром взялся за постановку собственных лент после завершения съемок «долларовой трилогии» Серджио Леоне. Второй фильм Иствуда «Бродяга высокогорных равнин», на первый взгляд мало чем отличается от любого среднестатистического приключения среднестатистического же ганслингера с весьма своеобразной моралью в антураже «фанерного» захолустья близ калифорнийского озера Моно. Немало критиков, в 1973 году побывавших на премьере «Бродяги», порицали Иствуда за вторичность на фоне творений его наставника Леоне и совершенно беспардонное паразитирование на образе брутального копа Грязного Гарри. Иначе и не скажешь, когда очередной бескомпромиссный борец с преступностью вновь разыгрывает оборону богом забытого городка от закоренелых зэков в стиле «Великолепной семерки».
Однако дьявол кроется в деталях, а в данном случае неугомонный чертяга еще и над фабулой шаманит всему рациональному вопреки. Недаром на здешнем кладбище расположили две надгробные плиты с именами Серджио Леоне и Дона Сигела — мастеров вестерна, которым Иствуд посвятит оскароносного «Непрощенного» в 1992-м. Дабы от жизни не отставать, надобно почаще посещать похороны. Если труды Пекинпы и Ко уже успели приучить тогдашнего зрителя к наслаждению экранной мерзостью, и ни жестокие перестрелки, ни сцены сексуального насилия оного более не шокируют, то вот к мистицизму в мире тяжелых револьверов и легких денег аудитория явно не привыкла. Железный Клинт рассказал бородатую историю мести весьма нестандартным образом, прибегая к потустороннему и в сюжете, и в визуальном коде. Привычная иллюстрация прибрежного старого Запада сначала проминается под тяжестью сумрачных флэшбеков главного героя (или же эти воспоминания принадлежат не ему?), а позже и вовсе преобразуются в самую настоящую провинциальную Преисподнюю. Инфернальные мотивы и ненавязчивые нотки спиритуализма дополняют описание вендетты паранормального мстителя с высокогорных равнин, что оставляет зрителю широкое поле для интерпретации сценария. Быть может, и в самом деле наша жизнь есть не более, чем подготовка к вечной каторге в Аду?
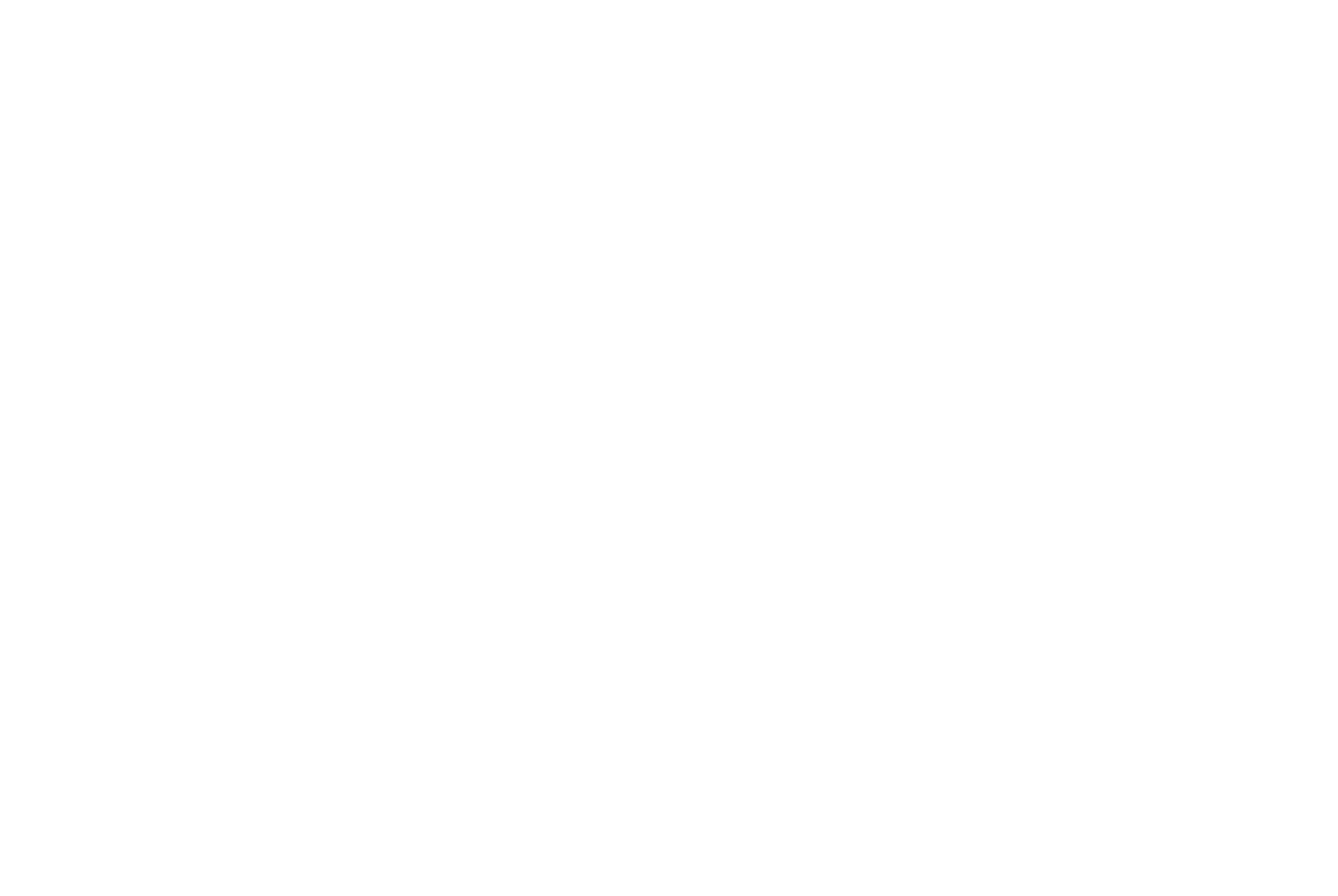
ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ ВСЕГДА ОТДАЮТ С ОПОЗДАНИЕМ
Этим самым бездушным палачом стал Роберт Олтмен — человек, вдоволь потоптавшийся на могилах многих направлений заскорузлого американского кино, будь то нуара в «Долгом прощании», военной драмы в «M.A.S.H» или многофигурнх мюзиклов в «Нэшвилле». Один из главных циников и балагуров Нового Голливуда не обошел стороной и вестерн, одержимый желанием пересчитать косточки и Форду, и Стерджессу, и Кертису, и всем-всем, кто под руку попадется.
Затвор взведен: «МакКейб и миссис Миллер» («Бордель» в простонародье) приглашает зрителя окунуться в царство порочности, депрессии и мизантропии. Фильм рассказывает о неотесанном представителе масти «из грязи в князи», который захотел нажиться на шахтерах с северо-запада США, построив для них дома игорный и публичный. Средства на возведение злачных местечек бродяга по имени Джон МакКейб выиграл в карты меньше, чем за один вечер. Несложно догадаться, что антрепренер из него получается еще тот: репутация таинственного странника с туманным прошлым никак не вяжется с ролью умелого управленца. Благо, что удача награждает щедро нашего горе-стартапера. Среди парочки «девочек по вызову», прибывших осваивать непочатые территории мужского одиночества в этой глухомани, затесалась некая миссис Миллер — опытная проститутка с недюжинной деловой хваткой.
В дальнейшем этой парочке предстоит пройти через огонь, воду и любовные шашни, помноженные на цифру в пять долларов за одну ночь. То в салуне работяги повздорят, то откуда ни возьмись нарисуются бизнесмены с «большой земли», под угрозой расправы требующие заложить здешний «конгломерат наслаждений» по цене, далекой от той, что воображается при упоминании пресловутой безбедной старости. Все вышеперечисленное рифмуется с привычными для Олтмена операторскими пируэтами с экстремальными зумами и игрой с отражениями, топорным саунд-дизайном, когда речь главных героев тяжело вычленять из хора пьяных голосов завсегдатаев таверны, и, куда же без этого, применением унылого серо-буро-малинового цветофильтра на заранее засвеченном негативе.
На смену палящему Солнцу и пафосным ковбойским standoff-дуэлям пришли слякоть, грязь и ни разу не благородная стрельба исподтишка. Под заунывные баллады Леонарда Коэна зритель погружается в густую атмосферу царства смрада и алчности, в котором нет места для библейских разграничений по признаку «доброе-злое». Внутрикадровые пространства «Борделя» отталкивают на физиологическом уровне, а безалаберная шпана, их населяющая, в лучшем случае спровоцирует надменный смешок. Олтмену удалось нащупать укромные болевые точки «золотого вестерна пятидесятых» и надавить на них столь сильно, что от лицезрения сих жанровых конвульсий хоть в петлю лезь, хоть к Мефистофелю на ковер. Рефлексия победила рефлексы, грусть затмила элегию, Запад озлобленный втоптал в грязь лицо Запада добродетельного. Курок спущен: последний выстрел поставил жирную точку в этой многострадальной хронике. И лишь плачевные строки из заедающей фолк-композиции Коэна звучат где-то вдалеке:
"И вновь бродягу видишь ты,
Он за тебя отдаст мечты,
Как будто взвалит грузом на другого.
Ты видела его пока
Как пух легка была рука,
А нынче проржавела как подкова.
И он готов продать игру за вход в обитель.
И он готов продать игру за вход в обитель".
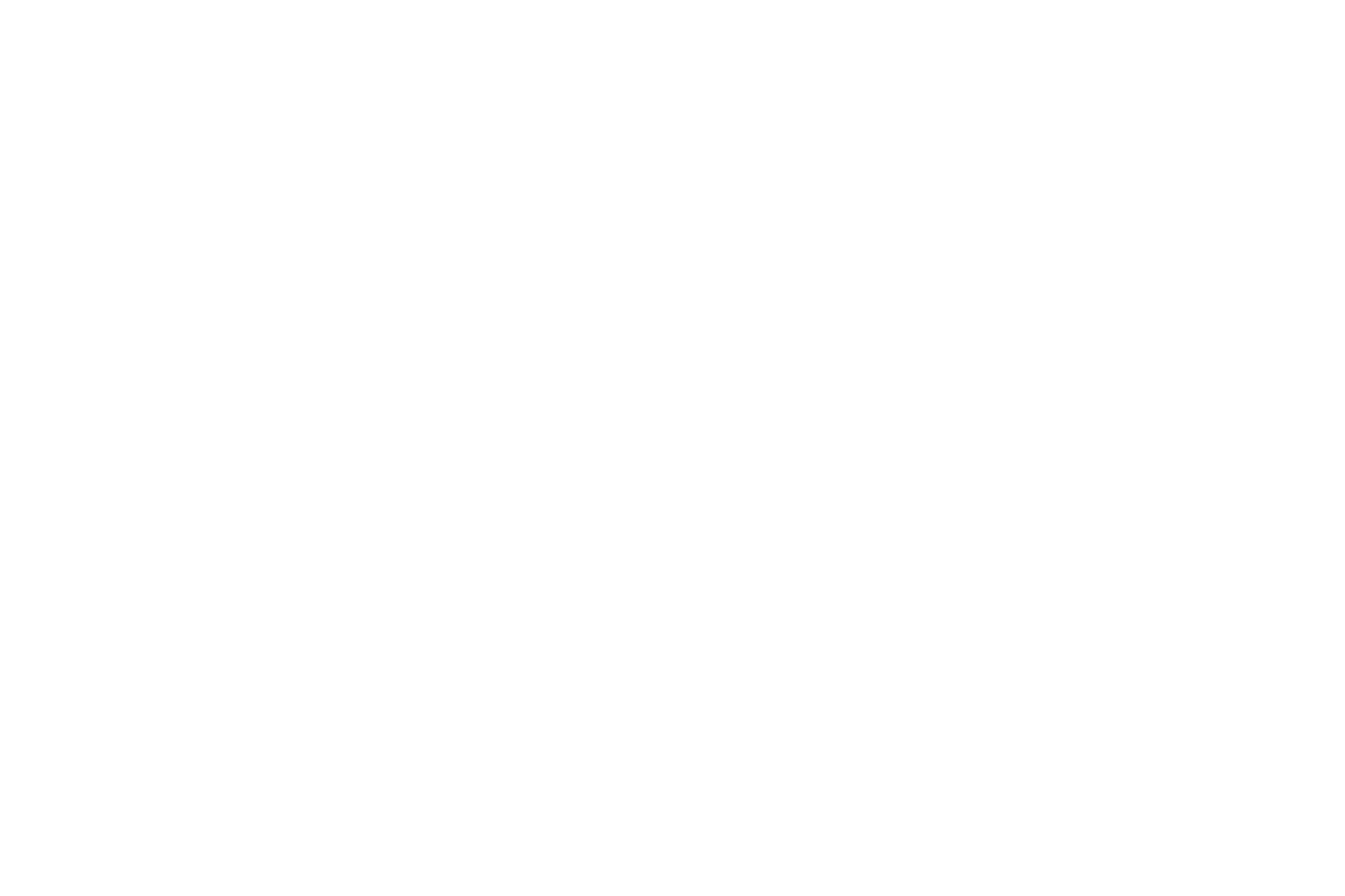
«Идеи ваши пугают, и вы слабы душой. Ваши поступки, продиктованные жалостью и жестокостью, лишены смысла, ибо свершаются в смятении, будто по неодолимому зову. И наконец, вы все больше страшитесь крови. Крови и времени».
Поль Валери
НЕТ МЕРТВОГО СЕЗОНА ДЛЯ МОГИЛЬЩИКОВ
И Джармуш ударялся в спиритуализм в «Мертвеце», и Эндрю Доминик ощупал ментальное бессилие на пару с гомоэротизмом в картине «Как трусливый Роберт Форд убил Джессси Джеймса», и Крэйг Залер нарядил вестерн про срывателей скальпов в оболочку хоррора в «Костяном томагавке» — традицию, как водится, не порушишь, коли эта самая традиция уже давно покоится на глубине шесть футов под землей. Тарантино по-мальчишески восторгается мужицкими вестернами в «Джанго», «Восьмерке» и его монументальном «Голливуде», Джастин Курзель превращает вестерн в шизофазическую рок-оперу в «Подлинной истории банды Келли», даже Джон Хиллкоут, клипмейкер по натуре, от вестернов максимально далекий, преподносит свой мрачный взгляд на Австралию эпохи буш-рейнджеров в томном и холодном «Предложении» с красавцем Гаем Пирсом. Апроприация апроприацией, подражание подражанием. Ревизия вестерна больше полувека назад не прошла незаметно, пускай труп американской эпопеи о Диком Западе, с оговорками, но иногда-таки продолжает шевелить окоченелостями. Но не будем об этом. В конце-то концов, у нас так заведено: о мертвых либо хорошо, либо никак.
Редактор: Лена Черезова