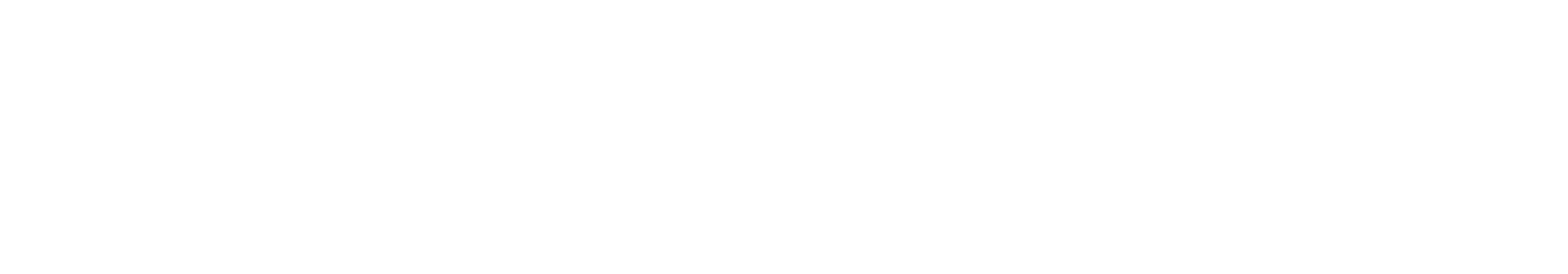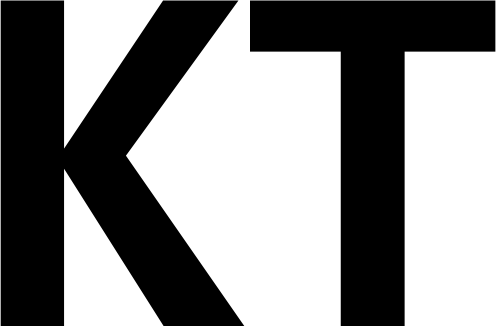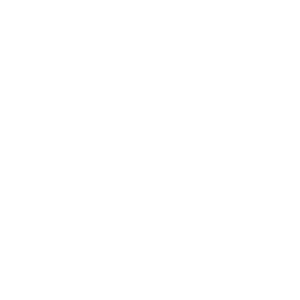ДАНИИЛ БЕЛОБРОВЕЦ | 27 СЕНТЯБРЯ 2019
ГАРМОНИИ ВЕРКМЕЙСТЕРА: ГИПНОТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Анализ фильма венгерского режиссера Белы Тарра в контексте кинокритики Андре Базена, практики мастеров французской новой волны и теории Сергея Эйзенштейна
ГАРМОНИИ ВЕРКМЕЙСТЕРА: ГИПНОТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ДАНИИЛ БЕЛОБРОВЕЦ | 27.09.2019
Анализ фильма венгерского режиссера Белы Тарра в контексте кинокритики Андре Базена, практики мастеров французской новой волны и теории Сергея Эйзенштейна
ГАРМОНИИ ВЕРКМЕЙСТЕРА: ГИПНОТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
ДАНИИЛ БЕЛОБРОВЕЦ | 27.09.2019
Анализ фильма венгерского режиссера Белы Тарра в контексте кинокритики Андре Базена, практики мастеров французской новой волны и теории Сергея Эйзенштейна
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
В 40-50-х годах XX века Андре Базен, основатель «Cahiers du cinema», духовный отец французской «Новой волны» и, должно быть, самый влиятельный кинотеоретик в истории, сформулировал собственную концепцию кино как способа остановки, мумификации времени. Оглядываясь на новые эстетические возможности, предоставляемые технологическим прогрессом послевоенной Европы распространение высокочувствительной пленки с улучшенной детализацией изображения, модернизацию киноаппаратуры, которая позволила существенно расширить диапазон движения камеры, и тотальную звукофикацию, открывшую для киноискусства новое физическое измерение, Базен увидел в кино способ прерывания неукротимого движения бесконечного потока событий, необходимого для того, чтобы пристальней всмотреться в цементированную реальность.
Интуиции Базена были не лишены доли идеализма – видимо, сказалось католическое воспитание героя. Он считал, что «десятая муза» отнюдь не подражает реальности и не воссоздает ее, но схватывает, позволяя открыть глубоко запрятанную от человеческого взора правду о мире. Необратимое следствие такой предпосылки – кино должно быть жизнью, в той мере, в которой оно может ей быть
Будучи одним из главных законодателей моды своего времени, Базен внес неоценимую лепту в популяризацию итальянского неореализма, а его идеи, столь куцо изложенные выше, повлияли на его становление. Подход теоретика, заостряющий внимание на реальности изображения, предполагал отказ от монтажных экспериментов довоенного авангарда, и последующими за этим заострение внимания на построении внутрикадровой динамики вместе с существенным замедлением темпа фильма. Результатом стало формирование определенного стиля авторского кино, затронувшего и Французскую новую волну, в особенности раннего Трюффо, Ромера и Шаброля; модернистский кинематограф блуждания, известный главным образом по работам Антониони; картины Роя Андерсона, доводящего прием глубинной мизансцены до фактического предела и подобно изощренному архитектору конструирующему сложные многомерные внутрикадровые пространства. И конечно же имя Базена напрямую связано и с главным героем этого текста – Белой Тарром.
Интуиции Базена были не лишены доли идеализма – видимо, сказалось католическое воспитание героя. Он считал, что «десятая муза» отнюдь не подражает реальности и не воссоздает ее, но схватывает, позволяя открыть глубоко запрятанную от человеческого взора правду о мире. Необратимое следствие такой предпосылки – кино должно быть жизнью, в той мере, в которой оно может ей быть
Будучи одним из главных законодателей моды своего времени, Базен внес неоценимую лепту в популяризацию итальянского неореализма, а его идеи, столь куцо изложенные выше, повлияли на его становление. Подход теоретика, заостряющий внимание на реальности изображения, предполагал отказ от монтажных экспериментов довоенного авангарда, и последующими за этим заострение внимания на построении внутрикадровой динамики вместе с существенным замедлением темпа фильма. Результатом стало формирование определенного стиля авторского кино, затронувшего и Французскую новую волну, в особенности раннего Трюффо, Ромера и Шаброля; модернистский кинематограф блуждания, известный главным образом по работам Антониони; картины Роя Андерсона, доводящего прием глубинной мизансцены до фактического предела и подобно изощренному архитектору конструирующему сложные многомерные внутрикадровые пространства. И конечно же имя Базена напрямую связано и с главным героем этого текста – Белой Тарром.
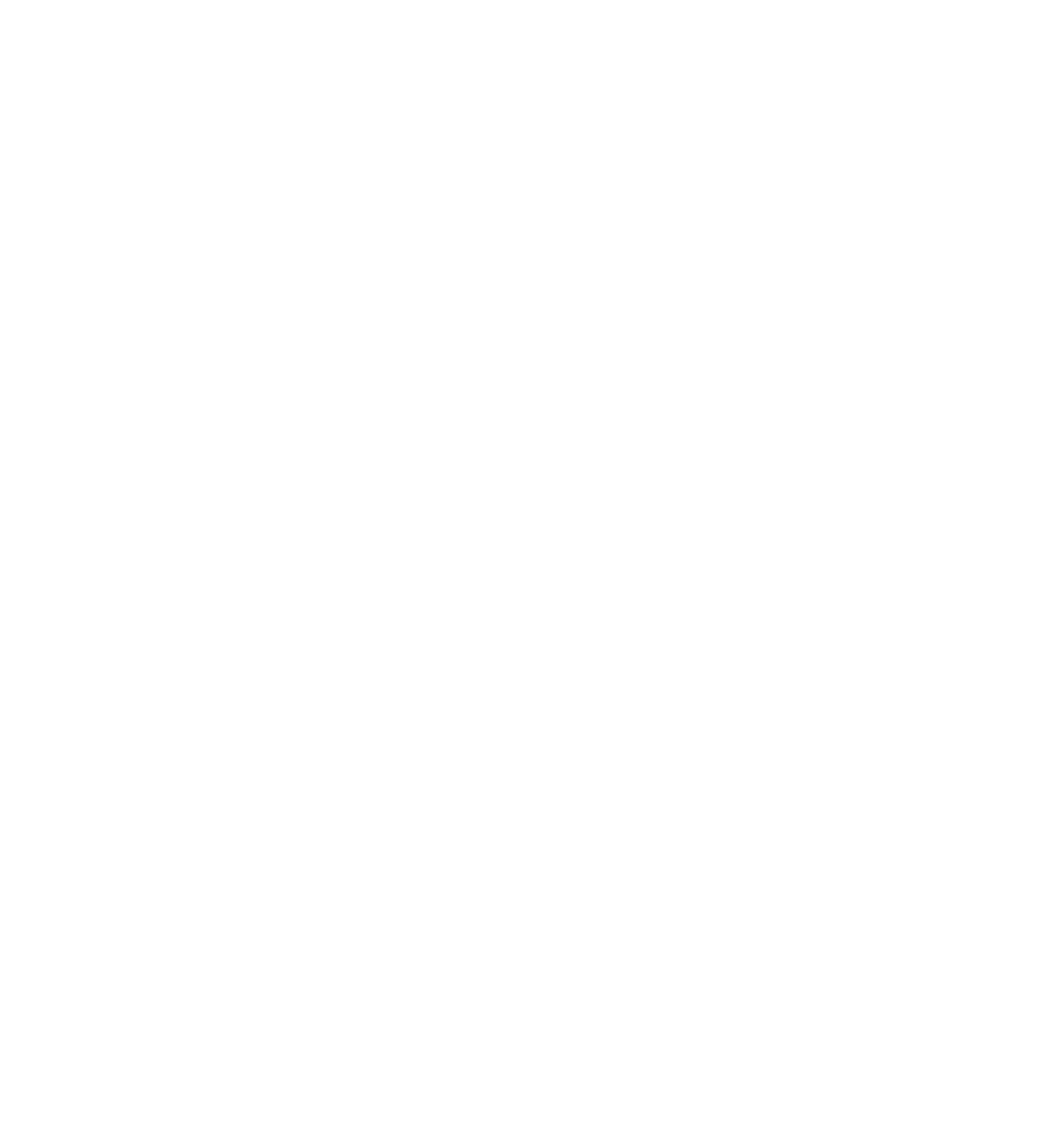
Андре Базен (1918-1958 гг.)
БАЗЕНОВСКАЯ КРИТИКА И СТИЛЬ ТАРРА
Тарр начинал свой режиссерский путь с социального реализма. Этот период его творчества продлился почти 10 лет и охватил 4 полнометражных картины. Первый фильм, «Семейный очаг» 1977 года, был посвящен квартирному вопросу, знакомому любой стране, познавшей горести и радости развитого социализма, и был выполнен в технике Cinema verité – принципе художественного правдоподобия, разработанным находившимися под влиянием базеновской критики мастерами Французской новой волны: Крисом Маркером и Жаном Рушем. Выполненный в псевдодокументальной стилистике и импровизационной манере, с участием непрофессиональных актеров фильм как бы приглашает зрителя окунуться в реальность венгерских семидесятых. Кино есть окно в мир, и чем меньше иллюзии заложено в природе фильма, тем он честнее, а следовательно, и лучше. Недаром, комментируя собственные работы Тарр советует не искать в них философского или метафизического подтекста, но призывает смотреть в них буквально, как скучающий прочий смотрит в окно своего двора.
На основе этих формальных установок закономерно развивается фирменный стиль фильмов Тарра конца 80-х-90-х годов, сделавших его современным классиком. Свойственная им созерцательная неподвижность - реакция на мейнстримное кино, использующее агрессивную монтажную динамику для привлечения внимания и развлечения публики. Сокращение количества монтажных склеек в угоду меланхоличным планам неразрывно связаны с духом социальной обреченности, вялотекущей депрессии, свойственной картинам режиссера. И хотя отголоски социальной проблематики первых работ будут настойчиво вторгаться и в картины «зрелого» периода, навязчивая медлительность освободится от цепей социальной мотивировки, став самоцелью. Примерно так Юрий Тынянов описывал эволюцию литературных приемов, прослеживая, как насыщенные смыслом элементы текста постепенно теряют свою первоначальную функцию, превращаясь в стилистические признаки.
Таким образом, медлительность прорастает из корней базеновской критики как способ схватывания реальности, но со временем трансформируется в «медленное кино» (одним из главных мастеров которого по праву считается Тарр). В таком виде она выходит за рамки своего предназначения, превращаясь в медиум – пластилин, из которого можно слепить в общем-то все что угодно: способ вглядывания в реальность, наделение изображения метафизическим свойством или формалистская попытка гипнотического воздействия на зрителя. Последнее в качестве цели значительно усложняет процесс создания фильма, ведь от съемочной группы требуется достичь почти магического эффекта, совершенно иррационального по своей сути; что делает медленное кино одним из сложнейших стилей, требующим не только и не столько ювелирной работы, сколько не поддающейся рациональному анализу творческой интуиции.
На основе этих формальных установок закономерно развивается фирменный стиль фильмов Тарра конца 80-х-90-х годов, сделавших его современным классиком. Свойственная им созерцательная неподвижность - реакция на мейнстримное кино, использующее агрессивную монтажную динамику для привлечения внимания и развлечения публики. Сокращение количества монтажных склеек в угоду меланхоличным планам неразрывно связаны с духом социальной обреченности, вялотекущей депрессии, свойственной картинам режиссера. И хотя отголоски социальной проблематики первых работ будут настойчиво вторгаться и в картины «зрелого» периода, навязчивая медлительность освободится от цепей социальной мотивировки, став самоцелью. Примерно так Юрий Тынянов описывал эволюцию литературных приемов, прослеживая, как насыщенные смыслом элементы текста постепенно теряют свою первоначальную функцию, превращаясь в стилистические признаки.
Таким образом, медлительность прорастает из корней базеновской критики как способ схватывания реальности, но со временем трансформируется в «медленное кино» (одним из главных мастеров которого по праву считается Тарр). В таком виде она выходит за рамки своего предназначения, превращаясь в медиум – пластилин, из которого можно слепить в общем-то все что угодно: способ вглядывания в реальность, наделение изображения метафизическим свойством или формалистская попытка гипнотического воздействия на зрителя. Последнее в качестве цели значительно усложняет процесс создания фильма, ведь от съемочной группы требуется достичь почти магического эффекта, совершенно иррационального по своей сути; что делает медленное кино одним из сложнейших стилей, требующим не только и не столько ювелирной работы, сколько не поддающейся рациональному анализу творческой интуиции.
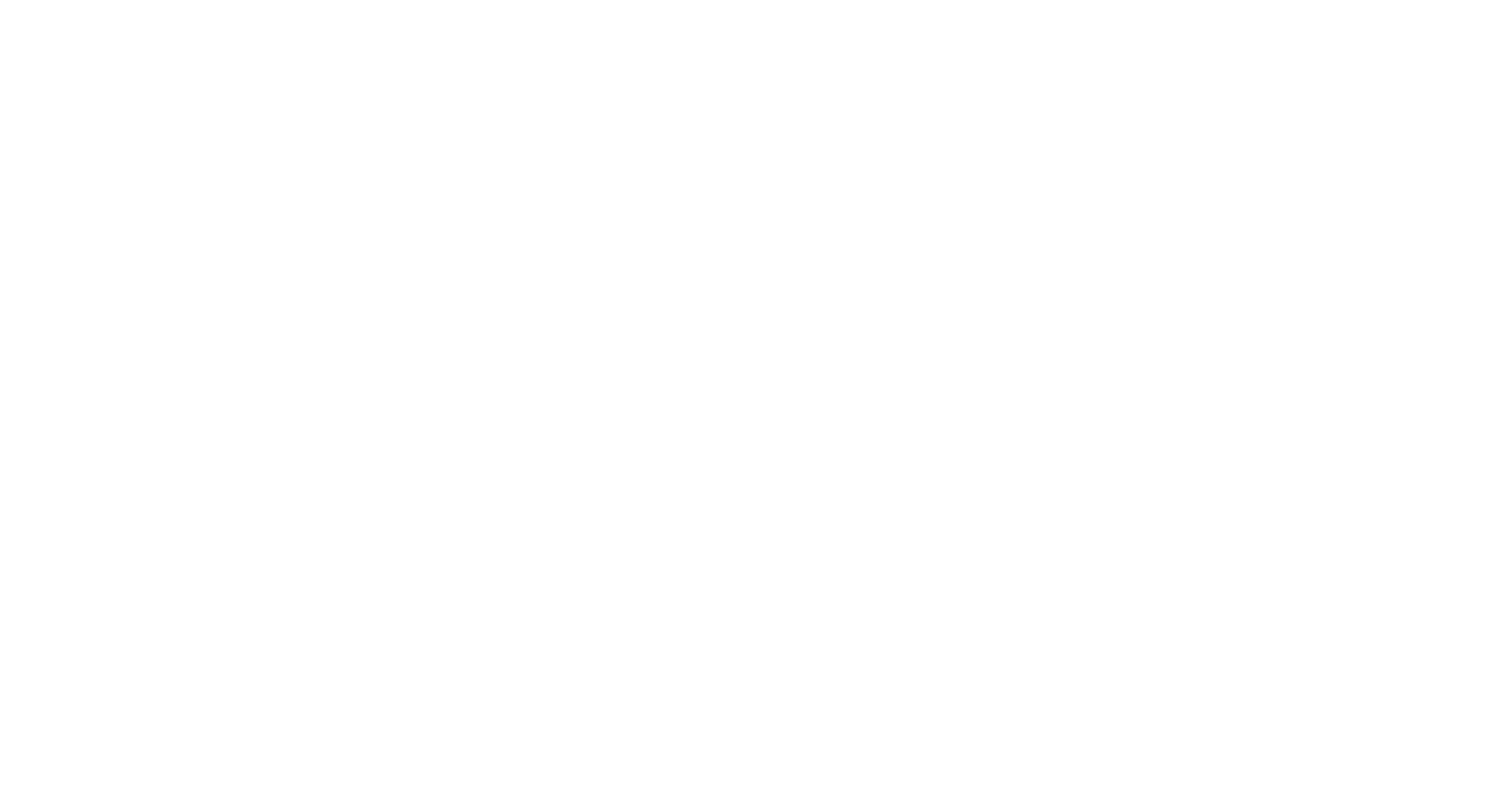
РАДИКАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НАД ФОРМОЙ
Тенденция Тарра к формализму впервые проявляется в «Макбете», снятом для венгерского телевидения в 1983-ем году. Здесь социальная ориентированность и документальность вытесняется первоисточником, а медлительность и отказ от межкадрового монтажа задействуется как способ изображения растягивающегося во времени помешательства главного героя. В картине присутствует всего одна монтажная склейка, разрезающая историю на два неравномерных по времени куска – «до» и «после». Еще «Проклятие» 1988-ого года, будучи переходной картиной, крепко удерживает медлительность внутри ее семантического ореола. Фильм использует эстетику и топику нуара для того, чтобы воссоздать опыт «маленького» человека в восточноевропейском постапокалипсисе конца века. Характерные для жанра стилистические приемы и сюжетные тропы лишаются своей динамической насыщенности, но не теряют остроты. Замедление темпа вкупе с тщательным конструированием мизансцен и фигурным движением камеры позволяют всмотреться в жизнь. Уже семичасовое «Сатанинское танго» обращается с медлительностью намного свободнее. Здесь режиссер, запечатлевающий медленное крушение мира (лейтмотив, пронизывающий все творчество Тарра), аккуратно скомпонованное в пределах унывающего венгерского «колхоза», растягивает время до предела, оказывая на зрителя около-физическое воздействие и придавая рассказанной истории почти библейские масштабы.
Последовавшие далее «Гармонии Веркмейстера» хочется назвать радикальным формалистическим экспериментом, в рамках которого аудиовизуальный опыт становится важнее смыслового наполнения. Эстетика социального реализма остается (как никак фильм посвящен революции), но, скорее, как неотъемлемая составляющая творческого почерка. Стилистика же вступает в свои законные права центрообразующего элемента, насыщая картину сюрреалистическим духом. Результатом оказывается неуловимый гипнотический эффект, превращающий экранное зрелище в сновидческое полотно.
В плане своего темпа «Гармонии», пожалуй, является одним из самых смелых и необычных медленных фильмов. Время здесь неровное, но скорее волнообразное. События фильма методично ускоряются, полнятся для того, чтобы взорваться в катарсической кульминации и уступить место следующей цепочке эпизодов. Отказываясь от линейного растяжения времени, картина вступает в сложную игру со зрительским восприятием, умело жонглируя различными состояниями: от неподдельной скуки до столь же неподдельного душевного напряжения. Волнистый, почти орнаментальный узор времени не позволяет сознанию наблюдателя закостенеть, оставляет его в положении постоянного перехода – чем не измененное состояние сознания, сродни тому, что испытывает человек, находящийся в ритуальном экстазе или наркотическом опьянении?
Одна из главных особенностей поэтики Тарра, наполняющая его неспешные фильмы грандиозной эмоциональной силой – это высокая суггестивность. Секрет ее, впрочем, неясен и принадлежит скорее сфере иррационального, необъяснимого аналитическими средствами и потому вынесенной за скобы научного знания в область магического. Вроде бы наблюдаешь за унылой бытовухой спивающегося доктора-вуайериста на протяжении нескольких часов, занимающих лишь скромную часть величественного «Сатанинского танго»; но сквозь экран прорываются и духота комнаты, и тяжесть телес героя, и вот ничем, казалось бы, не примечательные сцены приобретают удивительный объем, не позволяющий оторваться от экрана. Или же в «Проклятии», всего лишь усталая проститутка кормит грудью младенца рядом с телевизионным экраном, транслирующим белый шум; а перед зрителем подобно вееру разворачивается целый спектр чувств и смыслов, заложенных в столь лаконичный кадр. Так и в «Гармониях», разлагающийся труп мертвого кита, заключивший в себе красоту божественного замысла, или беззащитный нагой старик, ненароком останавливающий локомотив революционного насилия; объяснить природу воздействия этих образов подчас оказывается невозможно.
И все же зрительский опыт здесь направляется при помощи множества тонко подобранных и выверенных формальных элементов. Вся структура картины, описывающей мир, внезапно лишившийся гармонии, наполнена ассонансами, рифмующимися с идеями Андреса Веркмейстера, барочного композитора, «открывшего» гармонические свойства неравной темперации, что поставило под вопрос существующую музыкальную теорию. Контрастность, дух противоречий, пронизывающие ткань мироздания, бережно вшиты в мультиканальную ткань фильма. На уровне звука глубоко лиричные, хрустально хрупкие композиции Михая Вига, который работал над саундтреками ко всем фильмам Тарра начиная с «Проклятия», сталкиваются с индустриальной симфонией погибающего города: режущим скрежетом металлических листов, нервным трепетом автомобильных моторов, тяжелой поступью танковых гусениц; а последние, в свою очередь, перемежаются с тихой музыкой жизни: звоном посуды, шепотом ветра и треском брусчатки. Монохромное изображение открывает возможности для выстраивания барочной игры светотени, усиливающей гипнотический эффект. Наконец, фильм совмещает неспешные сцены бытовой жизни, выполненные в духе ранних фильмов режиссера, и проникнутые сюрреалистическим духом элементы магического реализма. Подобное соседство оказывается обоюдно выгодным: жизнь обогащается поэтической образностью, а поэзия – жизненной правдой.
Последовавшие далее «Гармонии Веркмейстера» хочется назвать радикальным формалистическим экспериментом, в рамках которого аудиовизуальный опыт становится важнее смыслового наполнения. Эстетика социального реализма остается (как никак фильм посвящен революции), но, скорее, как неотъемлемая составляющая творческого почерка. Стилистика же вступает в свои законные права центрообразующего элемента, насыщая картину сюрреалистическим духом. Результатом оказывается неуловимый гипнотический эффект, превращающий экранное зрелище в сновидческое полотно.
В плане своего темпа «Гармонии», пожалуй, является одним из самых смелых и необычных медленных фильмов. Время здесь неровное, но скорее волнообразное. События фильма методично ускоряются, полнятся для того, чтобы взорваться в катарсической кульминации и уступить место следующей цепочке эпизодов. Отказываясь от линейного растяжения времени, картина вступает в сложную игру со зрительским восприятием, умело жонглируя различными состояниями: от неподдельной скуки до столь же неподдельного душевного напряжения. Волнистый, почти орнаментальный узор времени не позволяет сознанию наблюдателя закостенеть, оставляет его в положении постоянного перехода – чем не измененное состояние сознания, сродни тому, что испытывает человек, находящийся в ритуальном экстазе или наркотическом опьянении?
Одна из главных особенностей поэтики Тарра, наполняющая его неспешные фильмы грандиозной эмоциональной силой – это высокая суггестивность. Секрет ее, впрочем, неясен и принадлежит скорее сфере иррационального, необъяснимого аналитическими средствами и потому вынесенной за скобы научного знания в область магического. Вроде бы наблюдаешь за унылой бытовухой спивающегося доктора-вуайериста на протяжении нескольких часов, занимающих лишь скромную часть величественного «Сатанинского танго»; но сквозь экран прорываются и духота комнаты, и тяжесть телес героя, и вот ничем, казалось бы, не примечательные сцены приобретают удивительный объем, не позволяющий оторваться от экрана. Или же в «Проклятии», всего лишь усталая проститутка кормит грудью младенца рядом с телевизионным экраном, транслирующим белый шум; а перед зрителем подобно вееру разворачивается целый спектр чувств и смыслов, заложенных в столь лаконичный кадр. Так и в «Гармониях», разлагающийся труп мертвого кита, заключивший в себе красоту божественного замысла, или беззащитный нагой старик, ненароком останавливающий локомотив революционного насилия; объяснить природу воздействия этих образов подчас оказывается невозможно.
И все же зрительский опыт здесь направляется при помощи множества тонко подобранных и выверенных формальных элементов. Вся структура картины, описывающей мир, внезапно лишившийся гармонии, наполнена ассонансами, рифмующимися с идеями Андреса Веркмейстера, барочного композитора, «открывшего» гармонические свойства неравной темперации, что поставило под вопрос существующую музыкальную теорию. Контрастность, дух противоречий, пронизывающие ткань мироздания, бережно вшиты в мультиканальную ткань фильма. На уровне звука глубоко лиричные, хрустально хрупкие композиции Михая Вига, который работал над саундтреками ко всем фильмам Тарра начиная с «Проклятия», сталкиваются с индустриальной симфонией погибающего города: режущим скрежетом металлических листов, нервным трепетом автомобильных моторов, тяжелой поступью танковых гусениц; а последние, в свою очередь, перемежаются с тихой музыкой жизни: звоном посуды, шепотом ветра и треском брусчатки. Монохромное изображение открывает возможности для выстраивания барочной игры светотени, усиливающей гипнотический эффект. Наконец, фильм совмещает неспешные сцены бытовой жизни, выполненные в духе ранних фильмов режиссера, и проникнутые сюрреалистическим духом элементы магического реализма. Подобное соседство оказывается обоюдно выгодным: жизнь обогащается поэтической образностью, а поэзия – жизненной правдой.
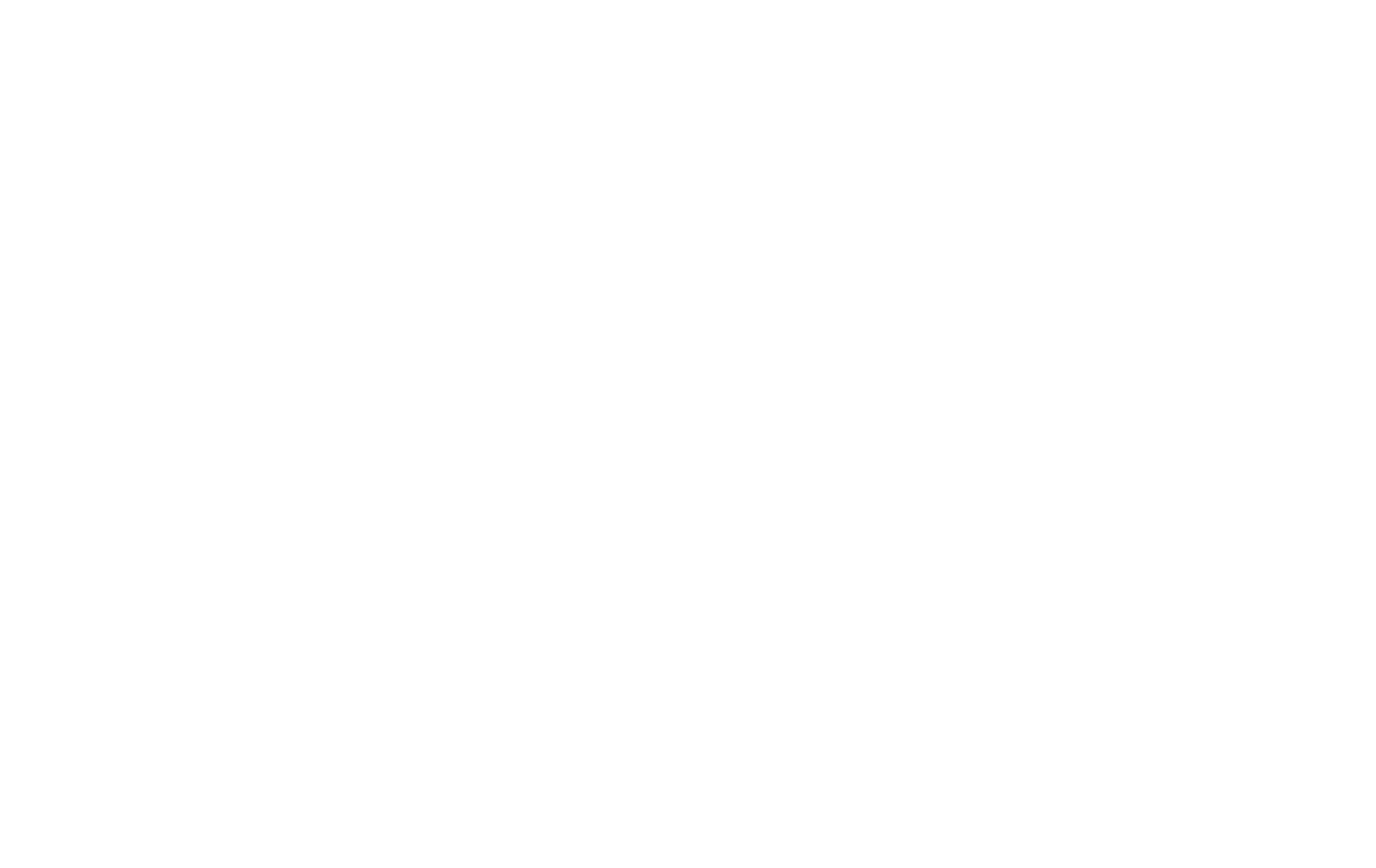
ТРАКТОВКИ КОНФЛИКТА
Столкновение противоположностей, создающее что-то новое, заложено в основу кинематографической теории и эстетики Сергея Эйзенштейна. Эта идея, принадлежащая столь далекому от Тарра по духу и образу мышления режиссера, оказывается на удивление созвучной «Гармониям». Если первый видел природу этого плодотворного конфликта в межкадровом монтаже, последний обнаруживает ее внутри кадра, в рамках множества структурных уровней. Объединяет постановщиков понимание дисгармонии как силы столь же разрушительной, сколь и созидательной. В одной из наиболее поэтичных сцен фильма Тарра – импровизированной постановке конца света, устроенной посетителями местного трактира – неуклюжее, стесненное шевеление тел постояльцев резонирует с математическим благозвучием движения небесных светил. И все же сбивчивость, шероховатость материи жизни не препятствует постижению красоты мира, равносильно заключенной что в научном исследовании, что в религиозном поиске. Так и тут, дисгармоничность формы, проявляющаяся в неровности темпа или контрастной структуре, вносит свой вклад в возникновение труднопостижимого, почти магического опыта, который дарит эта картина.
Редактор: Лена Черезова
Редактор: Лена Черезова
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.