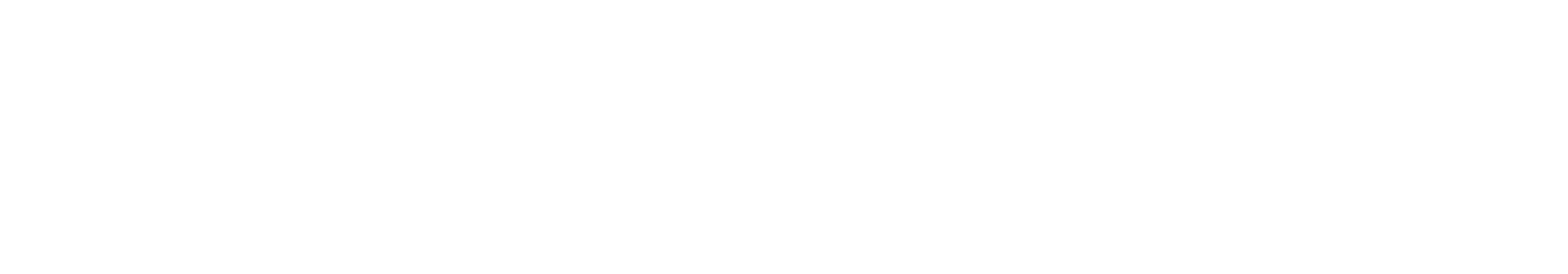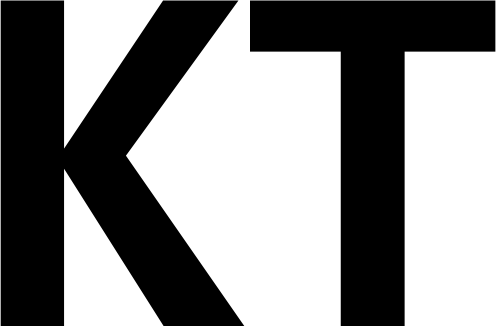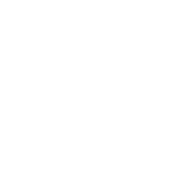ДМИТРИЙ ПОРЕЧНЫЙ | 31 ОКТЯБРЯ 2021
КИНЕМАТОГРАФ ПОД ПЕРОМ: ЭССЕ ОГРАНИЧЕННОГО
Об авангарде, абсолютном искусстве и теориях кино
КИНЕМАТОГРАФ ПОД ПЕРОМ: ЭССЕ ОГРАНИЧЕННОГО
ДМИТРИЙ ПОРЕЧНЫЙ | 31.10.2021
Об авангарде, абсолютном искусстве и теориях кино
КИНЕМАТОГРАФ ПОД ПЕРОМ: ЭССЕ ОГРАНИЧЕННОГО
ДМИТРИЙ ПОРЕЧНЫЙ | 31.10.2021
Об авангарде, абсолютном искусстве и теориях кино
«Вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино».
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Текст растянутого во времени и пространстве проекта журнала, посвященного теории кино. В этой работе Дмитрий Поречный пишет об авангарде и абсолютном искусстве.
Прямиком из ярмарочного балагана, тесно сплетенный с массами феномен кино требовал теоретического осмысления. Хотя бы в силу влияния, какое экран оказывал на людей. А влияние это, признаем, было в высшей степени ощутимым. Достаточно припомнить одно историческое событие. В 1897 году в Париже на «Благотворительном базаре» во время показа фильма случился пожар, унесший жизни почти полтораста человек. Несмотря на этот инцидент, вынудивший промышленников и банкиров обозвать кино «опасным развлечением», кинематографическая магия продолжила свое динамичное распространение (к примеру, инициативный Шарль Патэ после пожара учредил крайне успешную у зрителей фирму Le Film d’Art).
И пусть некоторые особенно досточтимые господа от художественного мира активно препятствовали процессу утверждения «движущейся фотографии», кинематограф, тем не менее, становился искусством. Искусством, за признание которого необходимо было бороться не только камерой, но и пером. А там где перо — там и рука автора.
Прежде чем вступать в обязательно длительный процесс теоретической конфронтации, автору надлежало первоначально определить сущность понятия, его, так сказать, «онтологию» — и лишь затем, идейно вооруженным, бросаться в личный бой чести.
Прямиком из ярмарочного балагана, тесно сплетенный с массами феномен кино требовал теоретического осмысления. Хотя бы в силу влияния, какое экран оказывал на людей. А влияние это, признаем, было в высшей степени ощутимым. Достаточно припомнить одно историческое событие. В 1897 году в Париже на «Благотворительном базаре» во время показа фильма случился пожар, унесший жизни почти полтораста человек. Несмотря на этот инцидент, вынудивший промышленников и банкиров обозвать кино «опасным развлечением», кинематографическая магия продолжила свое динамичное распространение (к примеру, инициативный Шарль Патэ после пожара учредил крайне успешную у зрителей фирму Le Film d’Art).
И пусть некоторые особенно досточтимые господа от художественного мира активно препятствовали процессу утверждения «движущейся фотографии», кинематограф, тем не менее, становился искусством. Искусством, за признание которого необходимо было бороться не только камерой, но и пером. А там где перо — там и рука автора.
Прежде чем вступать в обязательно длительный процесс теоретической конфронтации, автору надлежало первоначально определить сущность понятия, его, так сказать, «онтологию» — и лишь затем, идейно вооруженным, бросаться в личный бой чести.
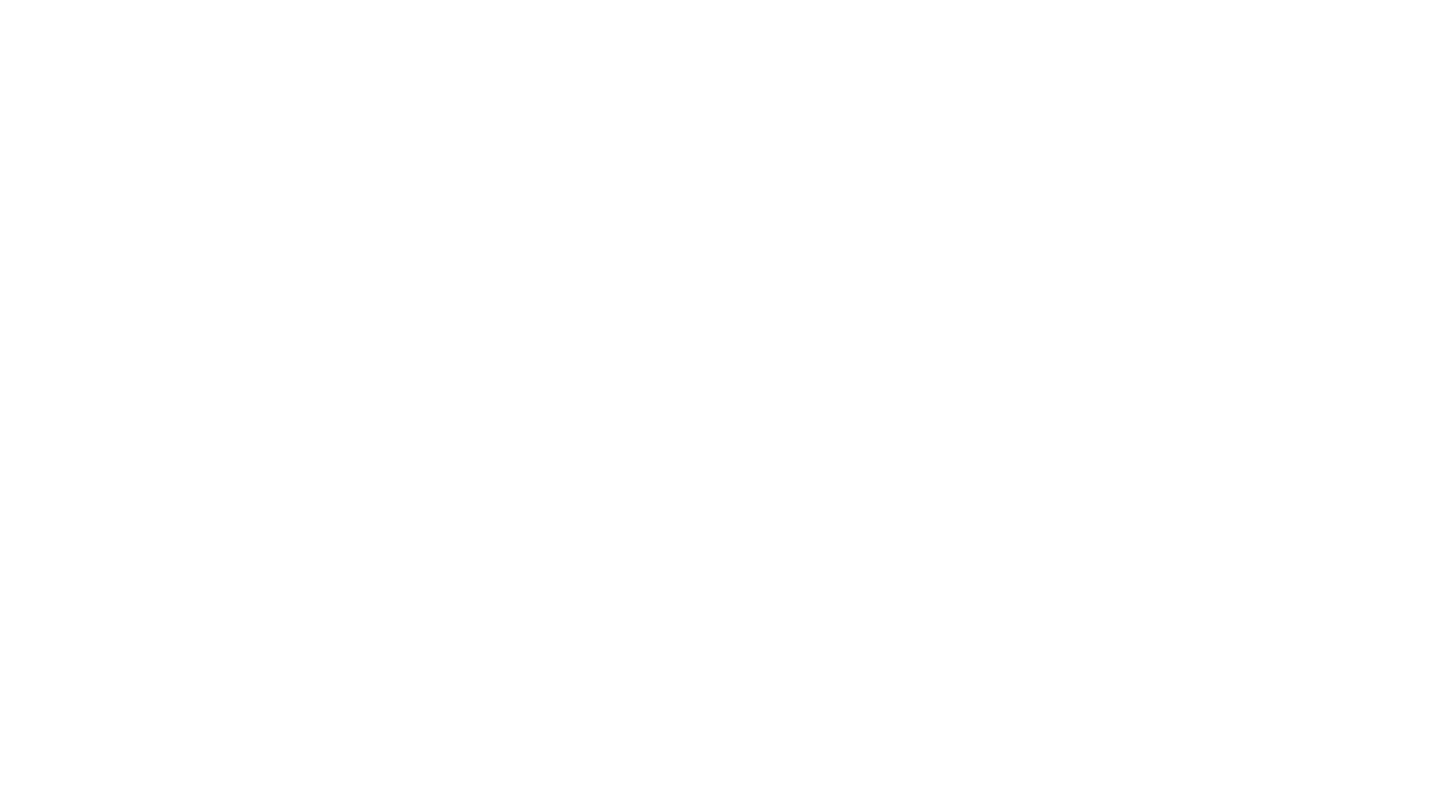
«Лихорадка» (1921) / реж. Луи Деллюк
ПЕРВЫЕ ЛИЦА, ПЕРВЫЕ ВЗГЛЯДЫ
Теоретиком-зачинателем выступил итальянец по происхождению Риччото Канудо. В своей «Эстетике седьмого искусства» он первым определил кино в качестве настоящего искусства, отличного от других форм творчества. Однако за этим утверждением крылся подтекст, позже взбудораживший умы авангардистов.
Указывая на синтетическую природу экрана, унифицирующего «временные» и «пространственные» искусства, Канудо пишет: «Кино продолжает опыт письменного творчества и его обновляет. Буквы алфавита — это схема, служащая для того, чтобы упростить и стилизовать образы, поразившие воображение людей в первобытные времена… Кино, увеличивая выразительные возможности посредством изображения, позволяет прийти к общемировому языку. Новое средство выражение поэтому должно возвратить изображение жизни к источникам всех эмоций, ища самое жизнь посредством движения». Иными словами, кино признается теоретиком не только за настоящее, но и за наивысшее искусство.
Этот тезис, в начале века подхваченный некоторыми режиссерами (к примеру, Абелем Ганцем, которого активно клеймил за формализм историк Ежи Теплиц), впоследствии разовьют в своих теоретических изысканиях Андрей Тарковский, Артавазд Пелешян и ряд других, близких к современности авторов.
Впрочем, на начало XX века Канудо лишь обозначил спектр вопросов, требующих дальнейшей проработки. На некоторые из них ответ держал его близкий друг и соавтор фотогенической концепции Луи Деллюк.
В своем поистине легендарном труде «Фотогения кино», к которому часто обращаются в случае, если речь заходит о художественном «духе», эстетической полноценности экрана, французский теоретик освоил целый комплекс проблем: от сущностно-отвлеченных до предметно-технических.
Деллюк одним из первых связал экранное искусство с массами, введя в теоретический обиход важное идейное основание кино. Проводя аналогию с боем быков, столь популярным в Испании среди толпы, он отмечает, что «кино еще более могущественно. Оно сближает еще более. Оно интернационально, и это так огромно, что никому не приходит в голову удивляться этому. Когда дадут себе отчет о мировом значении кино, — будут поражены. Потому что тогда нужно будет уже уметь обращаться с этим хозяином толпы».
Костяком деллюковских рассуждений выступала «мистическая» фотогения, которая заключается в «максимальном проникновении в предмет». Творческой рукотворности французский теоретик противопоставляет нетронутое существо исследуемого предмета, изначально в нем заложенное. Ибо «красота… выявляется фотографией, а не создается заново».
Историк кино Аристарко определяет понятие фотогении следующим образом. «Это слово, синтетически передающее связь кино с фотографией, должно выражать особое, предельно поэтическое обличие людей и вещей, которое может быть им придано только посредством нового художественного языка кинематографа…».
Однако собственно «мистического» в художественной направленности фотогении не сыскать и в помине. Вторя словам Канудо, Деллюк определяет кино в качестве нового искусства, способного на вскрытие подлинной красоты, таящейся в реальной жизни — и в этом, как кажется, реверанс автора в сторону представлений Канудо о кинематографе как о главном из искусств, непосредственно, напрямую связанном с жизнью. Отчеканив сущностную сторону феномена кино, киномыслитель обращается к пространству формы, к проблемам сугубо технического порядка (которым, надо сказать, уделена большая часть книги). Он выделяет, к примеру, особенное значение светотеневой композиции, которой либо снобистски злоупотребляют, либо исключают съемкой против света. В своих рассуждениях автор не раз повторит: «Пусть в кино все будет максимум натурально! Пусть все будет просто!». Ибо «зрителю не нужно знать, какими усилиями все это добыто…».
Деллюк, таким образом, не единожды обращается к представлениям своего итальянского коллеги, который в равной же степени опасался избыточного формализма. Аристарко пишет: «Канудо утверждает, что новаторский фильм должен быть не только поисками технических средств».
Указывая на синтетическую природу экрана, унифицирующего «временные» и «пространственные» искусства, Канудо пишет: «Кино продолжает опыт письменного творчества и его обновляет. Буквы алфавита — это схема, служащая для того, чтобы упростить и стилизовать образы, поразившие воображение людей в первобытные времена… Кино, увеличивая выразительные возможности посредством изображения, позволяет прийти к общемировому языку. Новое средство выражение поэтому должно возвратить изображение жизни к источникам всех эмоций, ища самое жизнь посредством движения». Иными словами, кино признается теоретиком не только за настоящее, но и за наивысшее искусство.
Этот тезис, в начале века подхваченный некоторыми режиссерами (к примеру, Абелем Ганцем, которого активно клеймил за формализм историк Ежи Теплиц), впоследствии разовьют в своих теоретических изысканиях Андрей Тарковский, Артавазд Пелешян и ряд других, близких к современности авторов.
Впрочем, на начало XX века Канудо лишь обозначил спектр вопросов, требующих дальнейшей проработки. На некоторые из них ответ держал его близкий друг и соавтор фотогенической концепции Луи Деллюк.
В своем поистине легендарном труде «Фотогения кино», к которому часто обращаются в случае, если речь заходит о художественном «духе», эстетической полноценности экрана, французский теоретик освоил целый комплекс проблем: от сущностно-отвлеченных до предметно-технических.
Деллюк одним из первых связал экранное искусство с массами, введя в теоретический обиход важное идейное основание кино. Проводя аналогию с боем быков, столь популярным в Испании среди толпы, он отмечает, что «кино еще более могущественно. Оно сближает еще более. Оно интернационально, и это так огромно, что никому не приходит в голову удивляться этому. Когда дадут себе отчет о мировом значении кино, — будут поражены. Потому что тогда нужно будет уже уметь обращаться с этим хозяином толпы».
Костяком деллюковских рассуждений выступала «мистическая» фотогения, которая заключается в «максимальном проникновении в предмет». Творческой рукотворности французский теоретик противопоставляет нетронутое существо исследуемого предмета, изначально в нем заложенное. Ибо «красота… выявляется фотографией, а не создается заново».
Историк кино Аристарко определяет понятие фотогении следующим образом. «Это слово, синтетически передающее связь кино с фотографией, должно выражать особое, предельно поэтическое обличие людей и вещей, которое может быть им придано только посредством нового художественного языка кинематографа…».
Однако собственно «мистического» в художественной направленности фотогении не сыскать и в помине. Вторя словам Канудо, Деллюк определяет кино в качестве нового искусства, способного на вскрытие подлинной красоты, таящейся в реальной жизни — и в этом, как кажется, реверанс автора в сторону представлений Канудо о кинематографе как о главном из искусств, непосредственно, напрямую связанном с жизнью. Отчеканив сущностную сторону феномена кино, киномыслитель обращается к пространству формы, к проблемам сугубо технического порядка (которым, надо сказать, уделена большая часть книги). Он выделяет, к примеру, особенное значение светотеневой композиции, которой либо снобистски злоупотребляют, либо исключают съемкой против света. В своих рассуждениях автор не раз повторит: «Пусть в кино все будет максимум натурально! Пусть все будет просто!». Ибо «зрителю не нужно знать, какими усилиями все это добыто…».
Деллюк, таким образом, не единожды обращается к представлениям своего итальянского коллеги, который в равной же степени опасался избыточного формализма. Аристарко пишет: «Канудо утверждает, что новаторский фильм должен быть не только поисками технических средств».
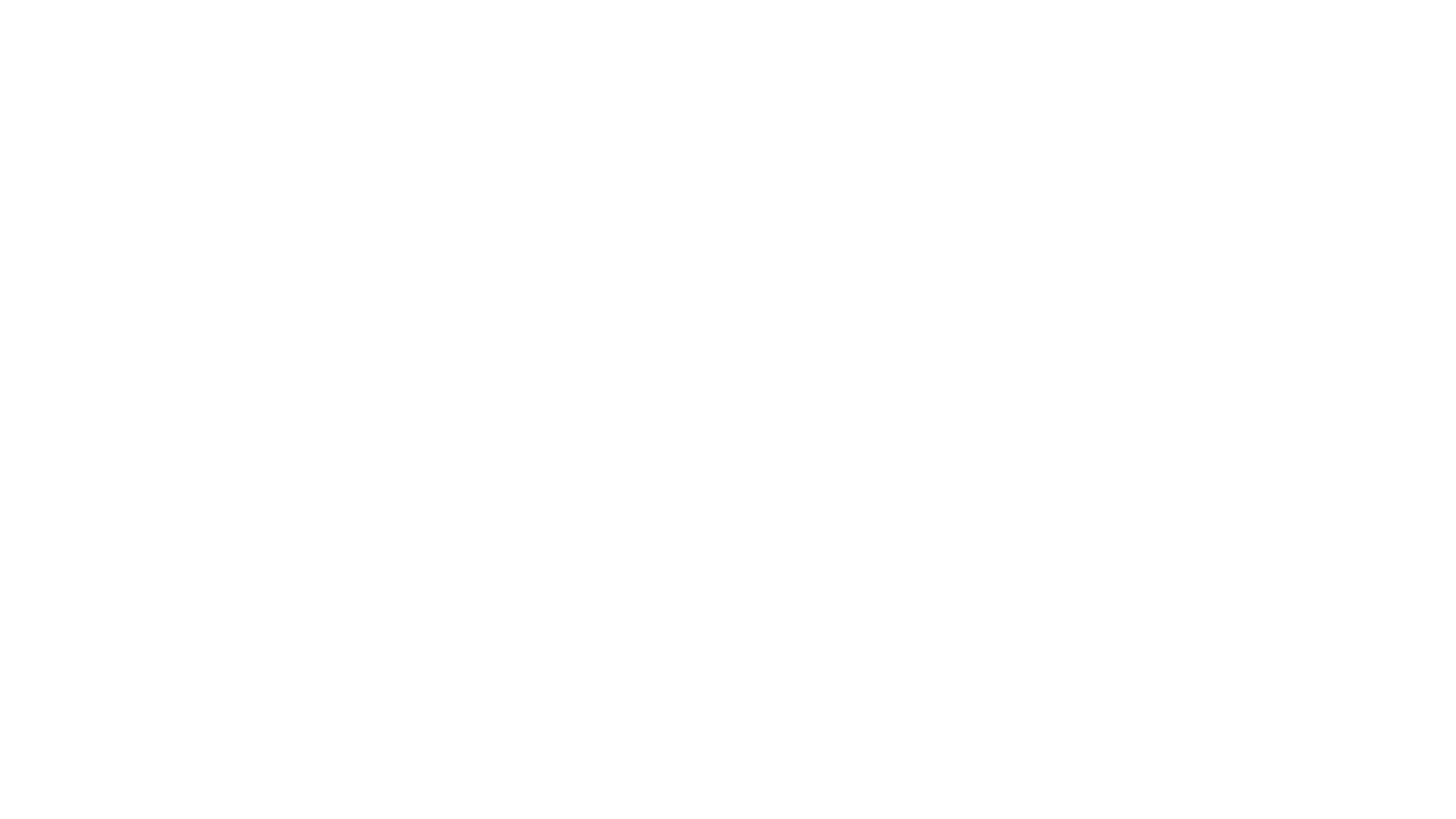
«Антуанетта Сабрие» (1927) / реж. Жермен Дюлак
Из углубления формальных вопросов Деллюка интересны его рассуждения о лицах и масках. Он считает, что «нужно во что бы то ни стало искать характерное в лице — характер лица. И его нужно уметь извлечь». В его понимании, именно физиогномическая выразительность достойна называться актерской «маской», тогда как технические изыски в форме «белого закрашенного лица» или особенного освещения не создают необходимого художественного воздействия. Ибо «маска не может быть нарисована — она должна быть изваяна». Отсюда конструктивное доказательство, выявленное в самом определении термина фотогения: не только камера создает образ, но и сам предмет, взятый в объектив, непременно обязан участвовать в его «выявлении». Иными словами, Аристарко не до конца прав, с неподдельной иронией ограничив деллюковскую фотогению техническими манипуляциями, составляющими «новый художественный язык кинематографа». Фотогения вскрывает самое жизнь, ее эстетическое существо, а отнюдь не «искусственно», посредством техники придает ей это свойство. Нерукотворность, выхваченная активностью кинокамеры и развернутая при монтаже, и есть источник подлинной фотогении.
Монтажной теории (казалось бы, наиважнейшей) в работе Деллюка должного места не нашлось. Только маленькая глава — буквально в две странички — ставит вопрос монтажа в форме частной проблемы ритма, раскрытой через фильм Сессиля де Милля «Жанна д’Арк» (1916). Именно ритм в понимании Деллюка составляет пример «равновесия фотогенических элементов». Из локального обозрения автор указывает лишь на двойную экспозицию («сюримпрессион»), однако конкретной разработки вопроса читатель лишен. Общие формулировки, обогащенные чаяниями к режиссерам, — да и, в общем-то, все.
Тем не менее интересный сегмент рассуждения все-таки присутствует. Развивая канудовский тезис о кино как об искусстве движения, Деллюк сравнивает монтаж (ритм) с музыкой, на что впоследствии обратят внимания и другие теоретики. Из ближайших к кругу Деллюка — сюрреалистка Жермена Дюлак, которая утверждала, что «музыка сопровождает драмы и поэмы, но есть чистая музыка, симфония. Так же и кино должно иметь свою симфоническую школу…».
Деллюк, составивший, по определению Теплица, авангардную группу кино-импрессионистов (или в названии Аристарко «визуалистов»), имел последователей, активно развивающих его теоретические искания. Однако в силу абстрактности некоторых суждений (в том числе вопроса монтажа), многие авторы оказывались во вполне свободном герменевтическом поле, где все зависело от остроты их собственного ума. Так, Жермена Дюлак вольно формулирует стремления зарождающегося искусства. По ее мнению, кино может быть подлинным лишь в том случае, если ограничится зрительными формами. В представлениях о ритме Дюлак не далеко ушла от выводов своего учителя. Из отличительных признаков можно разве что отметить структурность суждений, которые приводит Аристарко в пример.
Визуализм Дюлак предполагает пять ключевых положений, два из которых посвящены ритму как первенствующему элементу кинематографической художественности, определяющей требование к кино «отвергнуть всякую чужеродную эстетику и выработать свою». Она лишь конкретизировала положение ритма в общей системе киноязыка, определив его в числе важнейших элементов, — скорее даже требований, — отражающих самобытность киноискусства. Впрочем, самое обозначение смысла ритма, по каким-то причинам отграниченного от движения, так и осталось довольно отвлеченным, абстрактным.
Подчиняясь веяниям ортодоксального авангарда, нацеленного на наиболее полное разграничение искусств в борьбе за их самостоятельность, Дюлак буквально дегуманизирует кинематограф, который не должен «ограничиваться человеческой личностью, должно выйти за пределы показа человеческих отношений — в царство природы и мечты». Теоретик отказывается от нарратива и стремления рассказать какую бы то ни было историю вообще в пользу визуально-фотографической природы кинематографа — искусства, могущего творить посредством образов жизни, реальности.
Интересно, что в этих требовательных тезисах просматривается связка с другой группой кинематографистов — сторонников «чистого кино». Так, например, Анри Шометт, в честь фильма которого («Пять минут чистого кино», 1925) и было названо объединение, писал: «…все проявления кино на данном этапе сводятся к фильмам одного порядка, а именно: фильмы документальные (простые движущиеся фотографии, запечатлевшие действительность) и драматические (комедии, драмы, феерии и т. д., источники и сущность которых восходят к ранее существовавшим зрелищам — театру, пантомиме, мюзик-холлу и т. д.). Но возможности кино не ограничиваются воспроизведением мира. Кино может творить».
В этом месте возникает парадокс Дюлак-Шометта: кинематограф, с одной стороны, пользуется жизненным материалом, напрямую связан с действительностью (что и подмечал Деллюк относительно фотогении); с другой стороны, он в той же мере может быть независим от «воспроизведения мира», вполне способен «творить», обращаясь к иррациональному, «к мечте». Декламационно-полемический характер суждений разрешится в пользу авангардистов несколько позже, под немецким пером Зигфрида Кракауэра.
Монтажной теории (казалось бы, наиважнейшей) в работе Деллюка должного места не нашлось. Только маленькая глава — буквально в две странички — ставит вопрос монтажа в форме частной проблемы ритма, раскрытой через фильм Сессиля де Милля «Жанна д’Арк» (1916). Именно ритм в понимании Деллюка составляет пример «равновесия фотогенических элементов». Из локального обозрения автор указывает лишь на двойную экспозицию («сюримпрессион»), однако конкретной разработки вопроса читатель лишен. Общие формулировки, обогащенные чаяниями к режиссерам, — да и, в общем-то, все.
Тем не менее интересный сегмент рассуждения все-таки присутствует. Развивая канудовский тезис о кино как об искусстве движения, Деллюк сравнивает монтаж (ритм) с музыкой, на что впоследствии обратят внимания и другие теоретики. Из ближайших к кругу Деллюка — сюрреалистка Жермена Дюлак, которая утверждала, что «музыка сопровождает драмы и поэмы, но есть чистая музыка, симфония. Так же и кино должно иметь свою симфоническую школу…».
Деллюк, составивший, по определению Теплица, авангардную группу кино-импрессионистов (или в названии Аристарко «визуалистов»), имел последователей, активно развивающих его теоретические искания. Однако в силу абстрактности некоторых суждений (в том числе вопроса монтажа), многие авторы оказывались во вполне свободном герменевтическом поле, где все зависело от остроты их собственного ума. Так, Жермена Дюлак вольно формулирует стремления зарождающегося искусства. По ее мнению, кино может быть подлинным лишь в том случае, если ограничится зрительными формами. В представлениях о ритме Дюлак не далеко ушла от выводов своего учителя. Из отличительных признаков можно разве что отметить структурность суждений, которые приводит Аристарко в пример.
Визуализм Дюлак предполагает пять ключевых положений, два из которых посвящены ритму как первенствующему элементу кинематографической художественности, определяющей требование к кино «отвергнуть всякую чужеродную эстетику и выработать свою». Она лишь конкретизировала положение ритма в общей системе киноязыка, определив его в числе важнейших элементов, — скорее даже требований, — отражающих самобытность киноискусства. Впрочем, самое обозначение смысла ритма, по каким-то причинам отграниченного от движения, так и осталось довольно отвлеченным, абстрактным.
Подчиняясь веяниям ортодоксального авангарда, нацеленного на наиболее полное разграничение искусств в борьбе за их самостоятельность, Дюлак буквально дегуманизирует кинематограф, который не должен «ограничиваться человеческой личностью, должно выйти за пределы показа человеческих отношений — в царство природы и мечты». Теоретик отказывается от нарратива и стремления рассказать какую бы то ни было историю вообще в пользу визуально-фотографической природы кинематографа — искусства, могущего творить посредством образов жизни, реальности.
Интересно, что в этих требовательных тезисах просматривается связка с другой группой кинематографистов — сторонников «чистого кино». Так, например, Анри Шометт, в честь фильма которого («Пять минут чистого кино», 1925) и было названо объединение, писал: «…все проявления кино на данном этапе сводятся к фильмам одного порядка, а именно: фильмы документальные (простые движущиеся фотографии, запечатлевшие действительность) и драматические (комедии, драмы, феерии и т. д., источники и сущность которых восходят к ранее существовавшим зрелищам — театру, пантомиме, мюзик-холлу и т. д.). Но возможности кино не ограничиваются воспроизведением мира. Кино может творить».
В этом месте возникает парадокс Дюлак-Шометта: кинематограф, с одной стороны, пользуется жизненным материалом, напрямую связан с действительностью (что и подмечал Деллюк относительно фотогении); с другой стороны, он в той же мере может быть независим от «воспроизведения мира», вполне способен «творить», обращаясь к иррациональному, «к мечте». Декламационно-полемический характер суждений разрешится в пользу авангардистов несколько позже, под немецким пером Зигфрида Кракауэра.
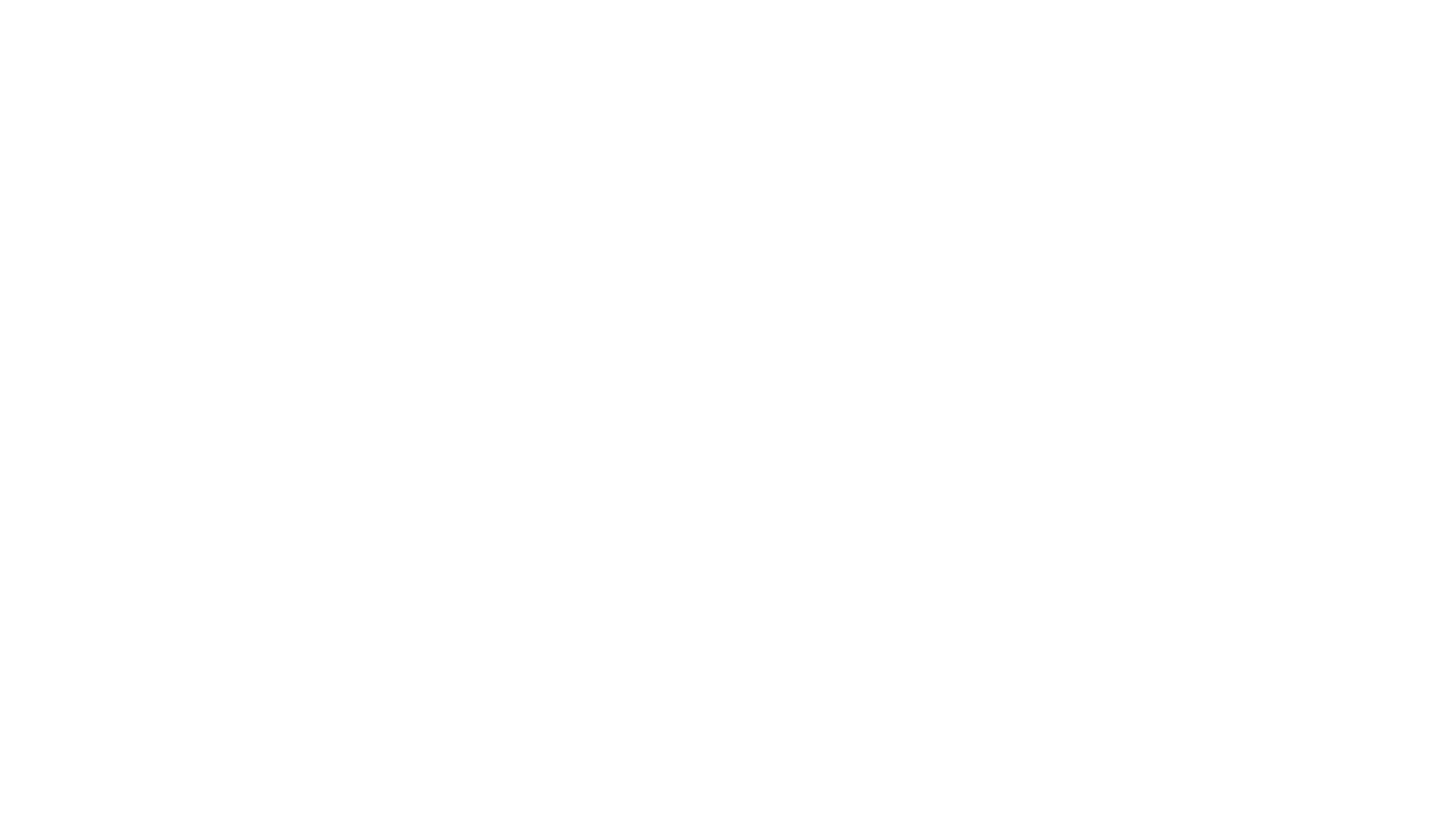
«Диагональная симфония» (1924) / реж. Викинг Эккелинг
Пробел в разработке вопроса монтажа попытался заполнить французский исследователь Леон Муссинак, который, продолжая выкладки Деллюка-Дюлак, частью прояснил творческие возможности кино как ритмически-монтажного искусства. В своем труде «Рождение кино» он четко отграничивает кинематограф от других искусств (театра, литературы и т. д.), подчеркивает его синтетическую природу. Однако «мы все еще только ждем кино кинематографическое, то есть фотогении в том смысле, какой придавал этому термину Луи Деллюк…».
Разбираясь в вопросе ритма, составляющего корень самобытности кино как искусства, Муссинак впервые определяет его фактический источник — монтаж (как читатель помнит, определенный Деллюком в смысле «равновесия фотогенических элементов»). Разделяя понятия «внешнего» (монтажное сопоставление) и «внутреннего» (динамика отдельно взятого кадра) ритма, теоретик отдает предпочтение первому. Именно «внешний ритм» составляет главную силу художественного воздействия кино, а следовательно — монтаж суть основание языка кинематографического искусства. Муссинак продолжает линию «музыкальной аналогии», усматривая в монтаже свойства музыки. Интересно, что и Дюлак определяла подлинное кино в качестве «визуальной симфонии». Также и немецкий авангардист Ганс Рихтер, выходец из круга дадаистов, считал, что искусство началось с музыки. Конструктивный пример, выражающий эти столь схожие рассуждения, представил Викинг Эккелинг в 1924 году (художник работал совместно с Рихтером) в экспериментальном фильме «Диагональная симфония», в котором исследование контрапунктирования и аналогий перетекло в визуальную демонстрацию — немую, прошу заметить! — некоего музыкального произведения. Произведения, которое можно было «услышать» через изображение.
Ганс Рихтер, один из ключевых теоретиков авангарда, продолжил общую тенденцию мысли, свойственную первым авангардистам: поиск собственной киноэстетики при условии синтетической природы фильма, подчеркнутое значение ритма как художественно образующего элемента кино, анализ технических перспектив экранного творчества и т. д.
Интерес вызывают крайне противоречивые идейные рассуждения Рихтера по вопросу направленности кино: кому, собственно, предназначено новое искусство — массам или эстетствующему меньшинству?
Развивая тезис о массовой природе кинематографа (ключевой в теории кино по сей день), Рихтер в 1947 году подчеркивает необходимость преодоления «тирании» давящих художника «вкусов и капризов широкой публики». Однако в книге «Борьба за фильм» немецкий авангардист, вдохновленный марксистским мировосприятием, выводит обратный тезис, вторящий деллюковской интенции. Потому (и из предвосхищения дальнейших рассуждений) на противоречие это следует обратить особенное внимание.
Рихтер считал, что кино — не элитарное искусство. Этот тезис противоречиво соседствует с другим — необходимостью воспитывать восприимчивого кинозрителя. Спрашивается, как же это возможно возвысить массу над собой, если все, что остается — это на нее же и опираться?! Рихтер писал, что существование кинематографа «имеет смысл исключительно в массе, а массам нужно это искусство для удовлетворения их собственных эстетических потребностей». На деле выходит, что такое «народное акцентирование» ограничивает ресурсы кино, его внеклассовую многоплановую ориентацию (собственно хаотичная толпа, как писал Луи Деллюк). Утверждаются рамки массового интереса и, что еще важнее, понимания как онтологические, хотя это и противоречит бытию искусства. Прошу меня простить, что забегаю вперед, однако не могу не включить суждения советского режиссера Андрея Тарковского, речь о котором пойдет ниже. «Поскольку „понимание“ — есть процесс, то это означает движение в смысле какого-то прогресса. Этот процесс никак не может означать опускание художника до уровня зрителя, потому что это был бы уже не прогресс, а регресс», — считал режиссер. Так где же, в каком месте возможно обнаружить иной источник кинематографического развития? На этот вопрос, неизбежно возникающий из суждений немецкого авангардиста, ответил выдающийся режиссер Жан-Мари Штрауб в длинном интервью Cahiers du cinema. Штрауб видел решение в ориентации на меньшинство, которое станет, «по словам Ленина, завтрашним большинством». Именно меньшинство, подстегивающее развитие искусства, сможет через это же самое искусство воспитать излюбленное Рихтером «народное большинство», подтянуть его до своего уровня.
Даже если предположить (как это и делает Рихтер), что сокращение качества кинотворчества связано с особенностями буржуазного общества, активностью его ключевых классовых агентов (алчных режиссеров, продюсеров, банкиров, государства и т. д.), элиты, меньшинства, то все-таки неясно, откуда тогда у массы необходимая энергия для развития кино, раз и она ограничена собственно классовыми интересами? Масса не способна возвыситься над своей потребительской сутью. Хотя бы потому, что не имела соответствующего опыта. Обращение к массам неизбежно влечет за собой утилитаризм, исключает «образ, который ничего не значит, кроме самого себя» (все по тому же Тарковскому). А следовательно ни о каком искусстве, ни о каком подлинном творчестве речи идти не может! В этом случае развивать и воспитывать необходимо не массы, как считает Рихтер, но именно действующее творящее меньшинство, которое в своем творческом отобщении от действительности, быта сможет — без личной материальной выгоды, но ради искусства — протянуть руку воспринимающему большинству. Если возможно вопреки классовой природе массы, большинства воспитать это самое большинство эстетически, тогда тот же классовый компонент возможно преодолеть воспитанием и в творческом не-потребительском меньшинстве! Именно меньшинство любовно культивировало авангард, только оно через новаторство стимулировало развитие искусства и киноискусство в частности.
Впрочем, я несколько отвлекся. Рассуждения Рихтера перекликались со мнением многих теоретиков, среди которых можно выделить, к примеру, Муссинака. Последнее сравнение подтверждается весьма развернутым интересом к ритму (что следует хотя бы из названий главы в книге Муссинака «Ритм или смерть» и фильма Рихтера «Ритм-21»), тезисом о «железном сценарии», позже развитым Пудовкиным и т. д.
Однако нерешенным остается, как не иронично, именно вопрос ритма, монтажа, к которому плавно подходили все теоретики. Подходили, но не решали, как того требовали обстоятельства.
Именно ритм, достигаемый через монтаж, становится насущной проблемой почти у всех теоретиков: где-то интуитивно-описательно, а где-то сознательно и структурно.
И как со всеми проблемами, мешающими развитию, ее нужно было решать. Иначе не избежать путаницы, угрожающей единству общей теории киноискусства.
Разбираясь в вопросе ритма, составляющего корень самобытности кино как искусства, Муссинак впервые определяет его фактический источник — монтаж (как читатель помнит, определенный Деллюком в смысле «равновесия фотогенических элементов»). Разделяя понятия «внешнего» (монтажное сопоставление) и «внутреннего» (динамика отдельно взятого кадра) ритма, теоретик отдает предпочтение первому. Именно «внешний ритм» составляет главную силу художественного воздействия кино, а следовательно — монтаж суть основание языка кинематографического искусства. Муссинак продолжает линию «музыкальной аналогии», усматривая в монтаже свойства музыки. Интересно, что и Дюлак определяла подлинное кино в качестве «визуальной симфонии». Также и немецкий авангардист Ганс Рихтер, выходец из круга дадаистов, считал, что искусство началось с музыки. Конструктивный пример, выражающий эти столь схожие рассуждения, представил Викинг Эккелинг в 1924 году (художник работал совместно с Рихтером) в экспериментальном фильме «Диагональная симфония», в котором исследование контрапунктирования и аналогий перетекло в визуальную демонстрацию — немую, прошу заметить! — некоего музыкального произведения. Произведения, которое можно было «услышать» через изображение.
Ганс Рихтер, один из ключевых теоретиков авангарда, продолжил общую тенденцию мысли, свойственную первым авангардистам: поиск собственной киноэстетики при условии синтетической природы фильма, подчеркнутое значение ритма как художественно образующего элемента кино, анализ технических перспектив экранного творчества и т. д.
Интерес вызывают крайне противоречивые идейные рассуждения Рихтера по вопросу направленности кино: кому, собственно, предназначено новое искусство — массам или эстетствующему меньшинству?
Развивая тезис о массовой природе кинематографа (ключевой в теории кино по сей день), Рихтер в 1947 году подчеркивает необходимость преодоления «тирании» давящих художника «вкусов и капризов широкой публики». Однако в книге «Борьба за фильм» немецкий авангардист, вдохновленный марксистским мировосприятием, выводит обратный тезис, вторящий деллюковской интенции. Потому (и из предвосхищения дальнейших рассуждений) на противоречие это следует обратить особенное внимание.
Рихтер считал, что кино — не элитарное искусство. Этот тезис противоречиво соседствует с другим — необходимостью воспитывать восприимчивого кинозрителя. Спрашивается, как же это возможно возвысить массу над собой, если все, что остается — это на нее же и опираться?! Рихтер писал, что существование кинематографа «имеет смысл исключительно в массе, а массам нужно это искусство для удовлетворения их собственных эстетических потребностей». На деле выходит, что такое «народное акцентирование» ограничивает ресурсы кино, его внеклассовую многоплановую ориентацию (собственно хаотичная толпа, как писал Луи Деллюк). Утверждаются рамки массового интереса и, что еще важнее, понимания как онтологические, хотя это и противоречит бытию искусства. Прошу меня простить, что забегаю вперед, однако не могу не включить суждения советского режиссера Андрея Тарковского, речь о котором пойдет ниже. «Поскольку „понимание“ — есть процесс, то это означает движение в смысле какого-то прогресса. Этот процесс никак не может означать опускание художника до уровня зрителя, потому что это был бы уже не прогресс, а регресс», — считал режиссер. Так где же, в каком месте возможно обнаружить иной источник кинематографического развития? На этот вопрос, неизбежно возникающий из суждений немецкого авангардиста, ответил выдающийся режиссер Жан-Мари Штрауб в длинном интервью Cahiers du cinema. Штрауб видел решение в ориентации на меньшинство, которое станет, «по словам Ленина, завтрашним большинством». Именно меньшинство, подстегивающее развитие искусства, сможет через это же самое искусство воспитать излюбленное Рихтером «народное большинство», подтянуть его до своего уровня.
Даже если предположить (как это и делает Рихтер), что сокращение качества кинотворчества связано с особенностями буржуазного общества, активностью его ключевых классовых агентов (алчных режиссеров, продюсеров, банкиров, государства и т. д.), элиты, меньшинства, то все-таки неясно, откуда тогда у массы необходимая энергия для развития кино, раз и она ограничена собственно классовыми интересами? Масса не способна возвыситься над своей потребительской сутью. Хотя бы потому, что не имела соответствующего опыта. Обращение к массам неизбежно влечет за собой утилитаризм, исключает «образ, который ничего не значит, кроме самого себя» (все по тому же Тарковскому). А следовательно ни о каком искусстве, ни о каком подлинном творчестве речи идти не может! В этом случае развивать и воспитывать необходимо не массы, как считает Рихтер, но именно действующее творящее меньшинство, которое в своем творческом отобщении от действительности, быта сможет — без личной материальной выгоды, но ради искусства — протянуть руку воспринимающему большинству. Если возможно вопреки классовой природе массы, большинства воспитать это самое большинство эстетически, тогда тот же классовый компонент возможно преодолеть воспитанием и в творческом не-потребительском меньшинстве! Именно меньшинство любовно культивировало авангард, только оно через новаторство стимулировало развитие искусства и киноискусство в частности.
Впрочем, я несколько отвлекся. Рассуждения Рихтера перекликались со мнением многих теоретиков, среди которых можно выделить, к примеру, Муссинака. Последнее сравнение подтверждается весьма развернутым интересом к ритму (что следует хотя бы из названий главы в книге Муссинака «Ритм или смерть» и фильма Рихтера «Ритм-21»), тезисом о «железном сценарии», позже развитым Пудовкиным и т. д.
Однако нерешенным остается, как не иронично, именно вопрос ритма, монтажа, к которому плавно подходили все теоретики. Подходили, но не решали, как того требовали обстоятельства.
Именно ритм, достигаемый через монтаж, становится насущной проблемой почти у всех теоретиков: где-то интуитивно-описательно, а где-то сознательно и структурно.
И как со всеми проблемами, мешающими развитию, ее нужно было решать. Иначе не избежать путаницы, угрожающей единству общей теории киноискусства.
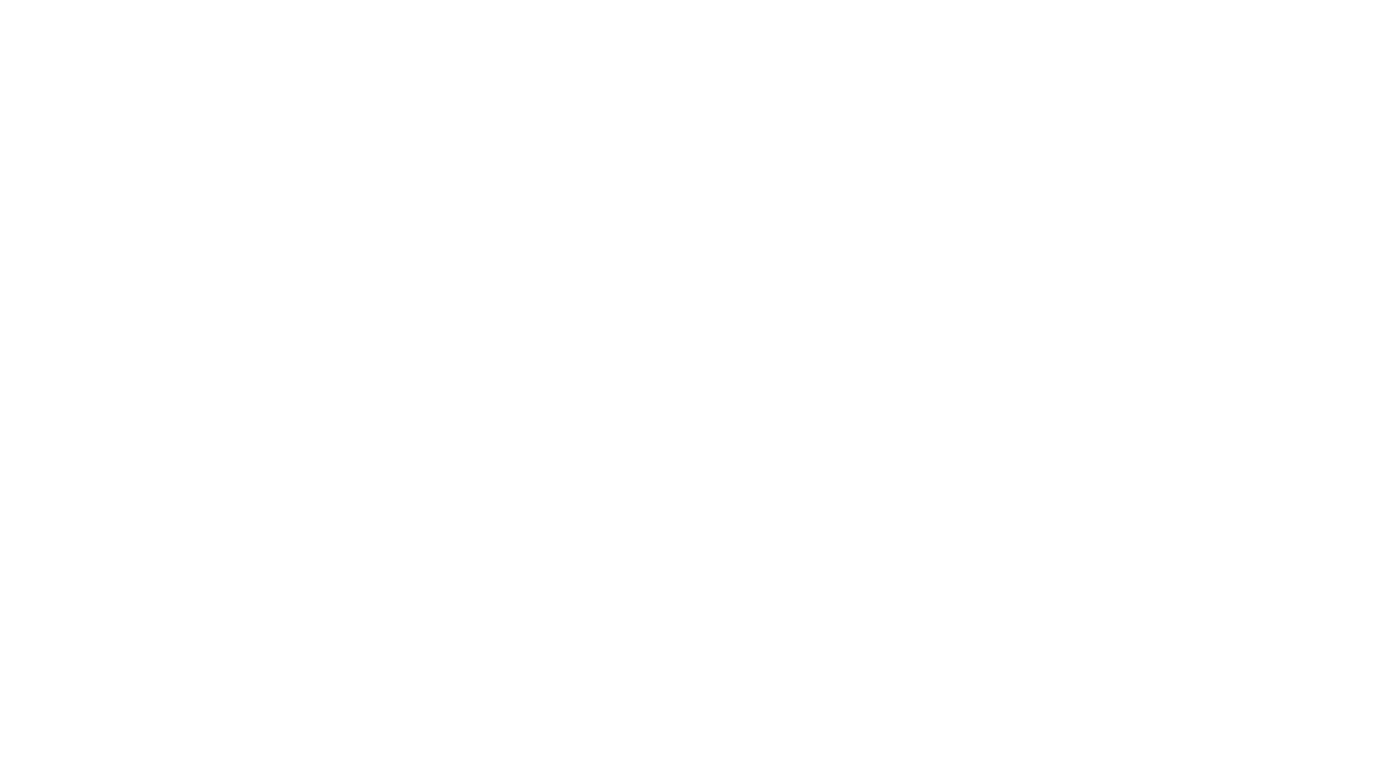
Дзига Вертов
МОНТАЖ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ КИНОЯЗЫКА
Первым, кто обратился к самому понятию монтажа, был советский документалист Дзига Вертов — современник французского и один из зачинателей советского киноавангарда, адепт самостоятельного, независимого киноискусства — высшего из всех возможных искусств по его мнению.
Воззрения Вертова на экран выражены, как это и полагается эпохе манифестирующих авангардов, в программном манифесте «Мы» — агрессивно резком по содержанию тексте. Будто вбирая существо убеждений Канудо, Деллюка, Дюлак и других авангардистов, Вертов почти по-маяковски отбивает суть требований: «Мы утверждаем будущее киноискусства отрицанием его настоящего. Смерть «кинематографии» необходима для жизни киноискусства. Мы призываем ускорить смерть ее. Мы протестуем против смешения искусств, которое многие называют синтезом. Смешение плохих красок, даже идеально подобранных под цвета спектра, даст не белый цвет, а грязь… Мы очищаем киночество от примазавшихся к нему, от музыки, литературы и театра, ищем своего, нигде не краденного ритма и находим его в движениях вещей».
Вертов, развенчивая (лучше сказать — отрезая) компромиссность суждений некоторых теоретиков, безапелляционно вклинивается в борьбу не только за признание кино искусством, но и за утверждение его самостоятельности. Самостоятельности, обусловленной самобытным художественным языком, возникающим из «своего» ритма, из киномонтажа. Программное определение первого следует из требования: «Киночество есть искусство организации необходимых движений вещей в пространстве и времени в ритмическое художественное целое, согласное со свойствами материала и внутренним ритмом каждой вещи». А организация эта, как станет ясно из последующих рассуждений автора, возможна только на монтажном столе. Важно, что Вертов одним из первых принялся нащупывать нерв баланса между внешним монтажным ритмом и динамикой отдельно взятого кадра: именно это «нащупывание» впоследствии оформится в костяк целостных систем кинематографической азбуки Тарковского и пелешяновского учения дистанционного монтажа, завершающих сложение единой кинотеории самостоятельного экранного искусства.
В статье «Наша точка зрения» Вертов расписывает конкретные позиции монтажа, являющегося средством конструирования внешнего и выявления внутрикадрового ритмов, в структуре киноязыка: «Вместо музыки, живописи, кинематографии и прочих кастрированных излияний на первое время:
1. Радио-ухо — монтажное «слышу»!
2. Кино-Глаз — монтажное «вижу»!
Вместо подделки под жизнь — монтаж самой жизни:
1. Радиохроника — организация наблюдений механического уха.
2. Кинохроника — организация наблюдений механического глаза».
Вызывают интерес мысли Вертова, представленные Аристарко: «Я — киноглаз. Я — глаз механический. Я — машина, показывающая вам мир таким, каким только я его смогу увидеть. Я освобождаю себя с сегодня навсегда от неподвижности человеческой. Я в непрерывном движении… С сегодня в кино не нужны ни психологические, ни детективные драмы. С сегодня не нужны театральные постановки, снятые на киноленту. С сегодня не инсценирует ни Достоевский, ни Нат Пинкертон. В путаницу жизни решительно входит:
1. Киноглаз, оспаривающий зрительное представление о мире человеческого глаза и предлагающий свое «вижу!»;
2. Киномонтажер, организующий впервые так увиденные минуты жизнестроения».
Гипербола монтажа и кинокамеры, стремящихся выявить самое жизнь (на что не способен человеческий глаз), повторяет у советского режиссера логику теории Канудо-Деллюка: только объектив и ритм имеют возможность раскрыть истинное содержание действительности. Повторяется та же смысловая конфигурация, согласно которой жизнь признается не только нерукотворной, но и невозможной к полному восприятию и пониманию человеком. Один лишь киноческий кино-глаз расположен к тому, чтобы показать мир, объективно и хладнокровно оголив его внутренность.
Выпячеваемая верность советского теоретика суверенному кинематографическому искусству — «самому важному из» — привела к плодотворным теоретическим результатам.
За идейной агрессией скрывается дюлаковская дегуманизация кино; экранное искусство буквально замыкается в самом себе, игнорируя подчас и человека. Вертов пишет: «Мы исключаем временно человека как объект киносъемки за его неумение руководить своими движениями. Наш путь — от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку». Документалист определяет направленность своих теоретических и практических исканий вектором подлинного, чистого кино. Ибо что такое кино? Единство органического и механического, техники и человека — именно так и рождается фильм. В случае с Дзигой Вертовым также рождается и кинотеория.
Можно сказать, что именно Вертов был ближе всех теоретиков к достижению специфической теории киноискусства, оторванного не только от других искусств, но и от мощного пласта культуры вообще. Именно он — один из множества — рискнул на реализацию подлинной авангардной энергии, «чистой революции», отражающей, по словам Рене Клера, саму природу кино.
В этом отношении показательно, как творчество Вертова перекликается с фильмами авангардистов — например, того же Фернана Леже с его дада-картиной «Механический балет» 1924-го года. Поэтика движения, диалектически связывающего жизнь органического и механического; созидание самой жизни через монтажный ритм (ибо сущностная черта жизни — движение) — такова витальная насыщенность работ авангарда, к коему и прибился вождь киноков.
В вертовском восприятии кинематограф обращается самоцелью, что отмечает, к примеру, тот же Аристарко, включая в свою интерпретацию рассуждений советского документалиста термин «фетиш». Происходит «самоотождествление с Кинематографией в ее самом высоком и чистом воплощении…». И не столько самоотождествление, сколько самоподчинение — любовное и добровольное. (Впрочем, а как иначе понять и осмыслить кино, осуществлять кинематографическое творчество, если собственно киноискусство не абсолютизируется в сознании автора или теоретика, не ставится во главу угла?)
Как и в случае с фотогенией, Аристарко излишне категоричен: Вертов не отрицает окружающий мир, не стремится искусственно конструировать внутрикадровое пространство. Вертов, наравне с Деллюком, признает за жизнью право на неприкосновенность, полноту которой способны выразить только кинокамера и монтаж — не больше, но и не меньше. Именно поэтому средством киноков выступал не «Кинокулак» Эйзенштейна, претендующий на активное преобразование видимой реальности посредством как монтажа, так и кинокамеры с постановочными решениями, а «Киноглаз», способный воспринимать никем не тронутое биение жизни.
Данные выводы относительно советского документалиста вступают в обозначенный выше парадокс Дюлак-Шометта: жизненность кинематографического материала, естественность движений конфликтно соседствуют с творческой потенцией художника, с вымыслом. «Кино есть также искусство вымысла движений вещей в пространстве, отвечающих требованиям науки, воплощение мечты изобретателя, будь то ученый, художник, инженер или плотник, осуществление киночеством неосуществимого в жизни…», — заявлял режиссер.
Вертов идет дальше своих предшественников, закладывая основания для разрешения назревшей дилеммы. Он одним из первых определяет связь между действительностью, репрезентуемой экраном, и художественной активностью, необходимой, «закономерной» в процессе репрезентации. «Неосуществимое в жизни» трактуется вертовским словом в смысле художественного прогноза, предвосхищения будущего, диктующего видимому движению вектор.
Следовательно, камера, монтаж в руках и под пером Вертова обретают способность воспринимать не только настоящую жизнь, но и жизнь будущую, предполагаемую. Режиссер нащупывает нерв жизненного процесса, его истинную направленность. И делает это в исключительном подчинении логике жизни. Такой подход связан со стремлением документалиста не столько сконструировать идеальный внутрикадровый мир, сколько отобразить объективные процессы, в этом мире происходящие, и сделать выводы, предположения, адекватные реальности (и ею порожденные). «Рисунки в движении. Чертежи в движении. Проекты грядущего. Теория относительности на экране». Это подлинное кинематографическое исследование, — вне всякой рукотворности, — повторяющее движение человеческой мысли. Мысли, погруженной в динамику жизни. Как исследователь Вертов соприкасается с объективной действительностью, творчески изобличает ее, препарирует, будто распятую жабу, выворачивает наизнанку, но никогда и ни при каких условиях не нарушает ее естество.
Проще говоря, он принимает жизнь такой, какая она есть. Творческая инициатива в случае с Вертовым только способ объемной репрезентации жизни. Не режиссер подгоняет жизнь под объектив, а жизнь растворяет режиссера в себе. Ибо «кинохроника должна жить действительностью».
Воззрения Вертова на экран выражены, как это и полагается эпохе манифестирующих авангардов, в программном манифесте «Мы» — агрессивно резком по содержанию тексте. Будто вбирая существо убеждений Канудо, Деллюка, Дюлак и других авангардистов, Вертов почти по-маяковски отбивает суть требований: «Мы утверждаем будущее киноискусства отрицанием его настоящего. Смерть «кинематографии» необходима для жизни киноискусства. Мы призываем ускорить смерть ее. Мы протестуем против смешения искусств, которое многие называют синтезом. Смешение плохих красок, даже идеально подобранных под цвета спектра, даст не белый цвет, а грязь… Мы очищаем киночество от примазавшихся к нему, от музыки, литературы и театра, ищем своего, нигде не краденного ритма и находим его в движениях вещей».
Вертов, развенчивая (лучше сказать — отрезая) компромиссность суждений некоторых теоретиков, безапелляционно вклинивается в борьбу не только за признание кино искусством, но и за утверждение его самостоятельности. Самостоятельности, обусловленной самобытным художественным языком, возникающим из «своего» ритма, из киномонтажа. Программное определение первого следует из требования: «Киночество есть искусство организации необходимых движений вещей в пространстве и времени в ритмическое художественное целое, согласное со свойствами материала и внутренним ритмом каждой вещи». А организация эта, как станет ясно из последующих рассуждений автора, возможна только на монтажном столе. Важно, что Вертов одним из первых принялся нащупывать нерв баланса между внешним монтажным ритмом и динамикой отдельно взятого кадра: именно это «нащупывание» впоследствии оформится в костяк целостных систем кинематографической азбуки Тарковского и пелешяновского учения дистанционного монтажа, завершающих сложение единой кинотеории самостоятельного экранного искусства.
В статье «Наша точка зрения» Вертов расписывает конкретные позиции монтажа, являющегося средством конструирования внешнего и выявления внутрикадрового ритмов, в структуре киноязыка: «Вместо музыки, живописи, кинематографии и прочих кастрированных излияний на первое время:
1. Радио-ухо — монтажное «слышу»!
2. Кино-Глаз — монтажное «вижу»!
Вместо подделки под жизнь — монтаж самой жизни:
1. Радиохроника — организация наблюдений механического уха.
2. Кинохроника — организация наблюдений механического глаза».
Вызывают интерес мысли Вертова, представленные Аристарко: «Я — киноглаз. Я — глаз механический. Я — машина, показывающая вам мир таким, каким только я его смогу увидеть. Я освобождаю себя с сегодня навсегда от неподвижности человеческой. Я в непрерывном движении… С сегодня в кино не нужны ни психологические, ни детективные драмы. С сегодня не нужны театральные постановки, снятые на киноленту. С сегодня не инсценирует ни Достоевский, ни Нат Пинкертон. В путаницу жизни решительно входит:
1. Киноглаз, оспаривающий зрительное представление о мире человеческого глаза и предлагающий свое «вижу!»;
2. Киномонтажер, организующий впервые так увиденные минуты жизнестроения».
Гипербола монтажа и кинокамеры, стремящихся выявить самое жизнь (на что не способен человеческий глаз), повторяет у советского режиссера логику теории Канудо-Деллюка: только объектив и ритм имеют возможность раскрыть истинное содержание действительности. Повторяется та же смысловая конфигурация, согласно которой жизнь признается не только нерукотворной, но и невозможной к полному восприятию и пониманию человеком. Один лишь киноческий кино-глаз расположен к тому, чтобы показать мир, объективно и хладнокровно оголив его внутренность.
Выпячеваемая верность советского теоретика суверенному кинематографическому искусству — «самому важному из» — привела к плодотворным теоретическим результатам.
За идейной агрессией скрывается дюлаковская дегуманизация кино; экранное искусство буквально замыкается в самом себе, игнорируя подчас и человека. Вертов пишет: «Мы исключаем временно человека как объект киносъемки за его неумение руководить своими движениями. Наш путь — от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку». Документалист определяет направленность своих теоретических и практических исканий вектором подлинного, чистого кино. Ибо что такое кино? Единство органического и механического, техники и человека — именно так и рождается фильм. В случае с Дзигой Вертовым также рождается и кинотеория.
Можно сказать, что именно Вертов был ближе всех теоретиков к достижению специфической теории киноискусства, оторванного не только от других искусств, но и от мощного пласта культуры вообще. Именно он — один из множества — рискнул на реализацию подлинной авангардной энергии, «чистой революции», отражающей, по словам Рене Клера, саму природу кино.
В этом отношении показательно, как творчество Вертова перекликается с фильмами авангардистов — например, того же Фернана Леже с его дада-картиной «Механический балет» 1924-го года. Поэтика движения, диалектически связывающего жизнь органического и механического; созидание самой жизни через монтажный ритм (ибо сущностная черта жизни — движение) — такова витальная насыщенность работ авангарда, к коему и прибился вождь киноков.
В вертовском восприятии кинематограф обращается самоцелью, что отмечает, к примеру, тот же Аристарко, включая в свою интерпретацию рассуждений советского документалиста термин «фетиш». Происходит «самоотождествление с Кинематографией в ее самом высоком и чистом воплощении…». И не столько самоотождествление, сколько самоподчинение — любовное и добровольное. (Впрочем, а как иначе понять и осмыслить кино, осуществлять кинематографическое творчество, если собственно киноискусство не абсолютизируется в сознании автора или теоретика, не ставится во главу угла?)
Как и в случае с фотогенией, Аристарко излишне категоричен: Вертов не отрицает окружающий мир, не стремится искусственно конструировать внутрикадровое пространство. Вертов, наравне с Деллюком, признает за жизнью право на неприкосновенность, полноту которой способны выразить только кинокамера и монтаж — не больше, но и не меньше. Именно поэтому средством киноков выступал не «Кинокулак» Эйзенштейна, претендующий на активное преобразование видимой реальности посредством как монтажа, так и кинокамеры с постановочными решениями, а «Киноглаз», способный воспринимать никем не тронутое биение жизни.
Данные выводы относительно советского документалиста вступают в обозначенный выше парадокс Дюлак-Шометта: жизненность кинематографического материала, естественность движений конфликтно соседствуют с творческой потенцией художника, с вымыслом. «Кино есть также искусство вымысла движений вещей в пространстве, отвечающих требованиям науки, воплощение мечты изобретателя, будь то ученый, художник, инженер или плотник, осуществление киночеством неосуществимого в жизни…», — заявлял режиссер.
Вертов идет дальше своих предшественников, закладывая основания для разрешения назревшей дилеммы. Он одним из первых определяет связь между действительностью, репрезентуемой экраном, и художественной активностью, необходимой, «закономерной» в процессе репрезентации. «Неосуществимое в жизни» трактуется вертовским словом в смысле художественного прогноза, предвосхищения будущего, диктующего видимому движению вектор.
Следовательно, камера, монтаж в руках и под пером Вертова обретают способность воспринимать не только настоящую жизнь, но и жизнь будущую, предполагаемую. Режиссер нащупывает нерв жизненного процесса, его истинную направленность. И делает это в исключительном подчинении логике жизни. Такой подход связан со стремлением документалиста не столько сконструировать идеальный внутрикадровый мир, сколько отобразить объективные процессы, в этом мире происходящие, и сделать выводы, предположения, адекватные реальности (и ею порожденные). «Рисунки в движении. Чертежи в движении. Проекты грядущего. Теория относительности на экране». Это подлинное кинематографическое исследование, — вне всякой рукотворности, — повторяющее движение человеческой мысли. Мысли, погруженной в динамику жизни. Как исследователь Вертов соприкасается с объективной действительностью, творчески изобличает ее, препарирует, будто распятую жабу, выворачивает наизнанку, но никогда и ни при каких условиях не нарушает ее естество.
Проще говоря, он принимает жизнь такой, какая она есть. Творческая инициатива в случае с Вертовым только способ объемной репрезентации жизни. Не режиссер подгоняет жизнь под объектив, а жизнь растворяет режиссера в себе. Ибо «кинохроника должна жить действительностью».
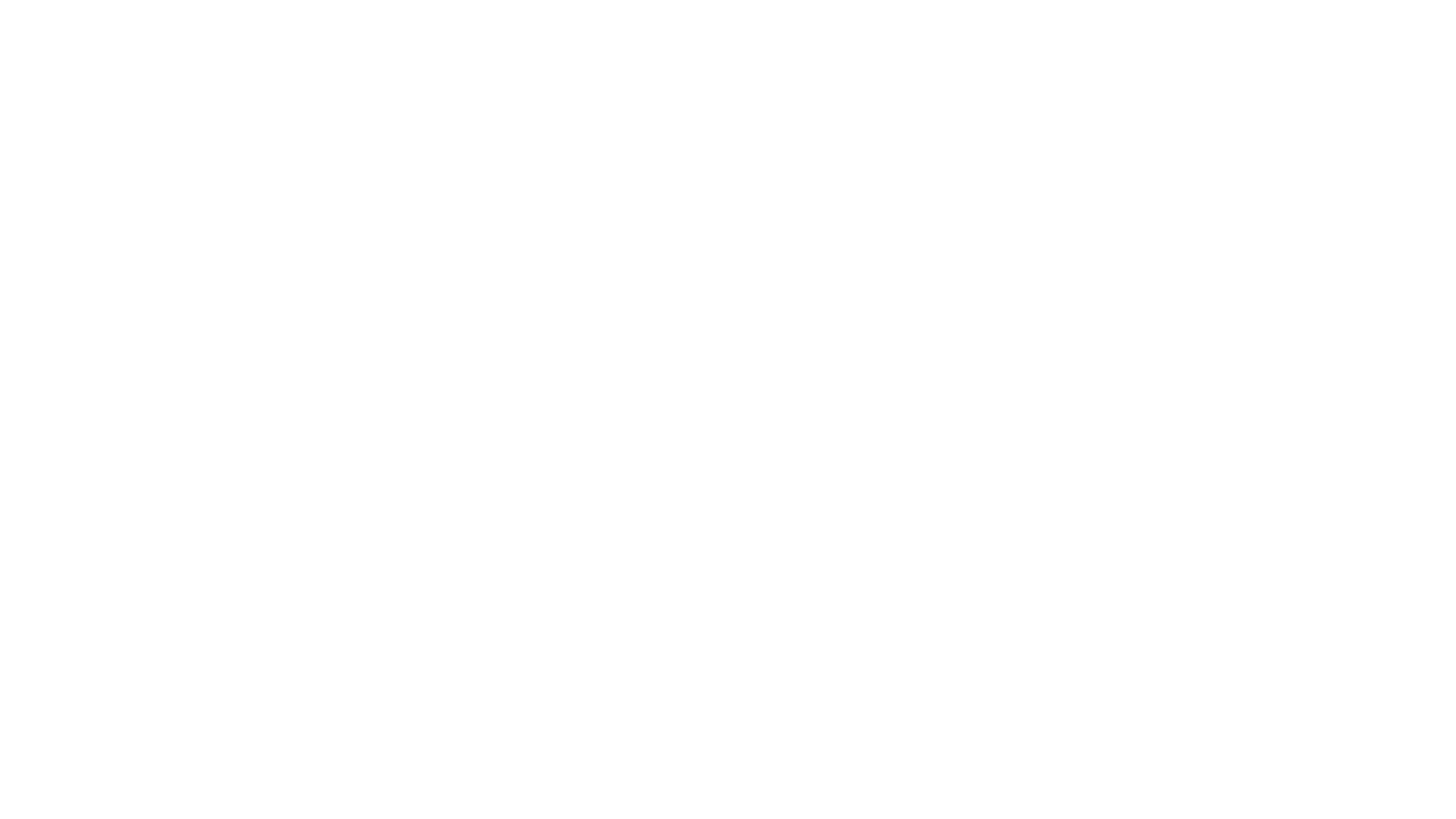
Сергей Эйзенштейн
Однако и Вертов, ставящий во главу угла два ключевых компонента искусства кино — монтажный ритм и изобразительность, визуализм, достигаемый камерой — игнорирует необходимость структурной проработки вопроса, что в практическом отношении доходит до отсутствия строгих закономерностей в монтажной конструкции. Последнее утверждение подчеркивает Аристарко: «Монтаж получался скорее произвольным, чем научным».
Возможно, режиссер интуитивно работал в ключе метрического монтажного построения, что отмечает исследователь Глауко Виацци. Возможно также, что монтажная вольность Вертова диктовалась разнообразием собранных кинодокументов и требовала не априорной группировки, а апостериорной; т. е. такой, которая выходила из характера самого материала. Сложность его монтажного мышления вскрывается и в киноческом манифесте, в котором ощупью пастулируется, что «материалом — элементами искусства движения — являются интервалы (переходы от одного движения к другому), а отнюдь не самые движения. Они-то (интервалы) и влекут действие к кинетическому разрешению». Значит, теоретически Вертов все же подходит напрямую к научному монтажу. Монтажная фраза, аккумулирующая интервалы движения и самое движение, в его понимании оборачивается ключевым элементом строения кинопроизведения. Впрочем, этот аксиоматический тезис сущностного развития лишен, что в некотором смысле оправдывает суждения итальянских критиков: дальше анализа монтажного материала Вертов идти не решается.
Интуитивность и кажущаяся алогичность вертовского творческого процесса на деле предопределяли последующие теоретические искания.
Именно эта узловая позиция, требующая полемики, интересовала основателя монтажной теории Сергея Эйзенштейна. Монтаж, к определению которого плавно подходили авангардные теоретики (уже тогда интуитивно понимающие ритм основным элементом киноязыка), был наконец в полной мере осознан мэтром советского экрана.
Сравнив театр с сохой, которую «нелепо совершенствовать», Эйзенштейн обращается к «трактору» — кинематографическому искусству, способному освободить советского режиссера от сценических ограничений. Впрочем, еще в годы увлечения театром Эйзенштейн активно исследует монтаж, постепенно вырабатывая концепцию «монтажа аттракционов».
Этот вариант монтажа, названный режиссером против вертовского «Киноглаза» «Кинокулаком», представляет собой общее обозначение целого комплекса монтажных воздействий — от метрического до собственно интеллектуального. Цель «Кинокулака» заключается в «эмоционализации мышления», в достижении абсолютного единства мысли и чувства, на которое способно только кино. «Кино — единственное конкретное искусство, которое в отличие от музыки одновременно и динамично, и заставляет мыслить. Все остальные виды искусства ввиду их статичности способны только ответить на мысль и не могут развивать ее. Мне кажется, что эта задача может быть выполнена только кинематографией. И это будет историческим вкладом в искусство нашей эпохи, потому что в наше время возник страшный дуализм между мыслью, чисто философским умозрением, и чувством, эмоцией… Думаю, что только кино способно достигнуть этого синтеза, снова облечь духовный элемент в формы, не абстрактные и эмоциональные, а конкретные и жизненные» — говорил теоретик.
В этом общем убеждении, впервые высказанном в 1930 году в Сорбонне, Эйзенштейн оголяет сразу несколько идейных связок с авангардными теоретиками кино.
С первых слов выделяется канудовское утверждение о кино как о высшем искусстве. Интересно, что апелляция к исключительности кинематографа обозначается в схожем ключе: Эйзенштейн возвращает «изображение жизни к источникам всех эмоций», как завещал Канудо. Здесь же особенно выделяется дуальность суждений советского теоретика: с одной стороны, утверждается привычная для Дюлак и Рихтера «музыкальная аналогия»; с другой — Эйзенштейн вторит Вертову, отметая «примазавшуюся» музыку от кинематографической теории. Советские авторы единолично подчеркивают самостоятельность кино, превосходящего другие искусства.
Эйзенштейн продолжил линию Вертова в разрешении Дюлак-Шометтовского парадокса: «Кинокулак», могущий травмировать (или творчески трансформировать — как кому угодно) реальность, тем не менее всегда с ней связан. Именно в этом ключе следует понимать факт размывания границ между «игровой» и «неигровой», провозглашенный советским режиссером.
Рассуждения Эйзенштейна, аккумулирующие наработанный опыт авангардных теоретиков, привнесли в кинотеорию новаторский элемент — «интенционность», или, как писал Лебедев, непосредственную связь автора с «новой социальной тематикой».
«Интенционность» в общем смысле означает способность «киностихии… ухватить представление полного хода мыслей взволнованного человека». Отсюда видится ясной идеологическая природа эйзейнштейновского кино, оперирующего идеями. Не зря советский режиссер хотел экранизировать «Капитал» Карла Маркса…
Эйзенштейн в некотором смысле перечеркнул значение отдельно взятого кадра, перенес по муссинаковскому веянию центр тяжести на внешний ритм. Тем самым был окончательно сформулирован теоретический перекос в сторону механического монтажного насилия (согласно Базену) над материалом. Поскольку материал вбирает самое жизнь, то именно она в конечном счете попадает под удары эйзенштейновского «Кинокулака».
Позже наработки Эйзенштейна примутся углублять и видоизменять другие авторы, среди которых знаменитый венгерский теоретик Бела Балаш.
В своих трудах Балаш подвергает детальному осмотру ключевые компоненты киноязыка, в результате чего собственно монтаж плавно отодвигается им на вторичные позиции (тем самым возникает прецедент, стремящийся выправить теоретический перекос Эйзенштейна).
В книге «Видимый человек» в авангарде кинематографических форм становится крупный план, определяющий поэтику кино. Отсюда особенное значение у венгра приобретают отдельно взятые кадры, и, как следствие, автор, ведущий посредством монтажа глаза зрителей.
Именно крупный план, поставленный во главу угла, составляет ключевой элемент теории Балаша. За ним следует другой, зависимый от первого: ракурс, который есть «синтез данности и отношения». Поскольку от ракурса зависит свойство демонстрируемого предмета, постольку имеет выражение и авторское отношение к нему.
Монтаж располагается в третьем ряду. Гипербола изобразительности кадра, подчеркнутая крупным планом и ракурсом, черпает себя из дюлаковских суждений о «визуалистской» природе кинематографа. Как следствие, монтаж в восприятии Балаша исключает всякое механическое понимание, ибо кадры «нельзя сопрягать» по литературной схеме. Не монтаж определяет качество визуального ряда, а каждые конкретные кадры непременно диктуют своей внутренней динамикой схему монтажного построения. В результате теория венгерского автора, высказанная в «Видимом человеке», санкционирует перекос в сторону безмонтажности, позже аккумулированной в теории плана-эпизода Базена. Впрочем, сам теоретик, по словам Аристарко, таких крайних утверждений избегает.
Историк пишет, что «даже самого значительного ракурса, указывает Балаш, недостаточно для того, чтобы придать изображению всю его значимость. Эта значимость определяется тогда, когда кадры входят в соприкосновение с другими, она определяется их комбинацией… Таким образом, монтаж становится… именно «творящими ножницами». Балаш ищет компромиссную позицию, где при сохранении отдельно взятого кадра в качестве ключевого элемента киноязыка сущностное значение приобретает и монтажное взаимодействие кадров. Это становится ясно хотя бы из следующего суждения. «Мы вкладываем определенное толкование в увиденное даже тогда, когда эти разъясняющие связи нам неизвестны. Кадр при этом попадает в случайный ассоциативный ряд. Опираясь на предыдущий кадр, мы видим в улыбке разнообразные, но всегда определенные психологические оттенки», — пишет Балаш. Наконец, внешний ритм, достигаемый посредством монтажа, возникает именно в результате взаимодействия динамик отдельно взятых кадров (что следует из опыта Деллюка-Дюлак). Именно поэтому, пишет Аристарко, «монтажный ритм может получить свое собственное, независимое, как бы музыкальное значение, которое имеет лишь отдаленное отношение к содержанию».
Сложность компромисса, недостаток и вторичность стилистических исследований Балаша (несколько прикрытые, на мой взгляд, в его труде «Дух фильмы») компенсируется двумя вещами. Первое — новаторский тезис о «рефрене», позже вложенный в костяк системы дистанционного монтажа Пелешяна. Второе — исследование звукового монтажа (также особенно значимого в пелешяновской монтажной системе). Острота ума теоретика позволила выделить в звуковых махинациях эквивалент монтажа изображений: существуют соответственно звуковой крупный план, звуковой ракурс и звуковой монтаж. Первый возникает в результате акцентирования звуков, создающего «новые смысловые связи». Звуковой ракурс уравнивается у Балаша с механическим воспроизведением и раскрывается только в контексте крупного плана: посредством особенной записи возможно выделять звуковые детали, деформируя общий пласт звуков. Звуковой же монтаж предполагает аудио-визуальный контрапункт, сформулированный еще Эйзенштейном.
Балаш признает за асинхронным звукомонтажом наивысшую художественную форму, которая создаст такое положение, при котором «…звуко-монтаж и монтаж кадров, как две мелодии, контрапунктически сольются друг с другом». И вновь симультанность голосов авторов, оперирующих «музыкальной аналогией».
Балаш, равно как Муссинак и советские теоретики (к примеру, тот же Пудовкин), признавал за кинематографом способность к созданию идеального пространства-время, сугубо кинематографического хронотопа, отличающегося от привычных форм восприятия реальности. Однако в этом утверждении существует парадоксальная сложность. Независимо от признаваемой идеальности кинематографического бытия, его творческой сущности, большинство теоретиков оставались сторонниками «реализма». Ибо кинокамера все-таки оперирует образами реальности, усиливая эффект фиксации действительности посредством движения (пусть и идеально кинематографического).
Со времен Канудо, убежденного в способности экрана оголить «самое жизнь», и вплоть до Эйзенштейна, считавшего необходимым «облечь духовный элемент» в формы вполне «конкретные и жизненные», теоретики нащупывали онтологическое единство киноискусства и жизни, которую экран может выразить наиболее полно.
Комплексный анализ формально-технических вопросов в большинстве своем игнорировал онтологическую сторону кино, его, так сказать, сущности (если касался ее, то отвлеченно и противоречиво).
Целый свод подобных вопросов требовал дальнейшего углубления и исследования. Требовал ответов от киномыслителей, не способных в нужный момент эти ответы предоставить.
От частных вопросов о массовом характере экрана и вплоть до фундаментальных, общих: а что такое — кино?
Возможно, режиссер интуитивно работал в ключе метрического монтажного построения, что отмечает исследователь Глауко Виацци. Возможно также, что монтажная вольность Вертова диктовалась разнообразием собранных кинодокументов и требовала не априорной группировки, а апостериорной; т. е. такой, которая выходила из характера самого материала. Сложность его монтажного мышления вскрывается и в киноческом манифесте, в котором ощупью пастулируется, что «материалом — элементами искусства движения — являются интервалы (переходы от одного движения к другому), а отнюдь не самые движения. Они-то (интервалы) и влекут действие к кинетическому разрешению». Значит, теоретически Вертов все же подходит напрямую к научному монтажу. Монтажная фраза, аккумулирующая интервалы движения и самое движение, в его понимании оборачивается ключевым элементом строения кинопроизведения. Впрочем, этот аксиоматический тезис сущностного развития лишен, что в некотором смысле оправдывает суждения итальянских критиков: дальше анализа монтажного материала Вертов идти не решается.
Интуитивность и кажущаяся алогичность вертовского творческого процесса на деле предопределяли последующие теоретические искания.
Именно эта узловая позиция, требующая полемики, интересовала основателя монтажной теории Сергея Эйзенштейна. Монтаж, к определению которого плавно подходили авангардные теоретики (уже тогда интуитивно понимающие ритм основным элементом киноязыка), был наконец в полной мере осознан мэтром советского экрана.
Сравнив театр с сохой, которую «нелепо совершенствовать», Эйзенштейн обращается к «трактору» — кинематографическому искусству, способному освободить советского режиссера от сценических ограничений. Впрочем, еще в годы увлечения театром Эйзенштейн активно исследует монтаж, постепенно вырабатывая концепцию «монтажа аттракционов».
Этот вариант монтажа, названный режиссером против вертовского «Киноглаза» «Кинокулаком», представляет собой общее обозначение целого комплекса монтажных воздействий — от метрического до собственно интеллектуального. Цель «Кинокулака» заключается в «эмоционализации мышления», в достижении абсолютного единства мысли и чувства, на которое способно только кино. «Кино — единственное конкретное искусство, которое в отличие от музыки одновременно и динамично, и заставляет мыслить. Все остальные виды искусства ввиду их статичности способны только ответить на мысль и не могут развивать ее. Мне кажется, что эта задача может быть выполнена только кинематографией. И это будет историческим вкладом в искусство нашей эпохи, потому что в наше время возник страшный дуализм между мыслью, чисто философским умозрением, и чувством, эмоцией… Думаю, что только кино способно достигнуть этого синтеза, снова облечь духовный элемент в формы, не абстрактные и эмоциональные, а конкретные и жизненные» — говорил теоретик.
В этом общем убеждении, впервые высказанном в 1930 году в Сорбонне, Эйзенштейн оголяет сразу несколько идейных связок с авангардными теоретиками кино.
С первых слов выделяется канудовское утверждение о кино как о высшем искусстве. Интересно, что апелляция к исключительности кинематографа обозначается в схожем ключе: Эйзенштейн возвращает «изображение жизни к источникам всех эмоций», как завещал Канудо. Здесь же особенно выделяется дуальность суждений советского теоретика: с одной стороны, утверждается привычная для Дюлак и Рихтера «музыкальная аналогия»; с другой — Эйзенштейн вторит Вертову, отметая «примазавшуюся» музыку от кинематографической теории. Советские авторы единолично подчеркивают самостоятельность кино, превосходящего другие искусства.
Эйзенштейн продолжил линию Вертова в разрешении Дюлак-Шометтовского парадокса: «Кинокулак», могущий травмировать (или творчески трансформировать — как кому угодно) реальность, тем не менее всегда с ней связан. Именно в этом ключе следует понимать факт размывания границ между «игровой» и «неигровой», провозглашенный советским режиссером.
Рассуждения Эйзенштейна, аккумулирующие наработанный опыт авангардных теоретиков, привнесли в кинотеорию новаторский элемент — «интенционность», или, как писал Лебедев, непосредственную связь автора с «новой социальной тематикой».
«Интенционность» в общем смысле означает способность «киностихии… ухватить представление полного хода мыслей взволнованного человека». Отсюда видится ясной идеологическая природа эйзейнштейновского кино, оперирующего идеями. Не зря советский режиссер хотел экранизировать «Капитал» Карла Маркса…
Эйзенштейн в некотором смысле перечеркнул значение отдельно взятого кадра, перенес по муссинаковскому веянию центр тяжести на внешний ритм. Тем самым был окончательно сформулирован теоретический перекос в сторону механического монтажного насилия (согласно Базену) над материалом. Поскольку материал вбирает самое жизнь, то именно она в конечном счете попадает под удары эйзенштейновского «Кинокулака».
Позже наработки Эйзенштейна примутся углублять и видоизменять другие авторы, среди которых знаменитый венгерский теоретик Бела Балаш.
В своих трудах Балаш подвергает детальному осмотру ключевые компоненты киноязыка, в результате чего собственно монтаж плавно отодвигается им на вторичные позиции (тем самым возникает прецедент, стремящийся выправить теоретический перекос Эйзенштейна).
В книге «Видимый человек» в авангарде кинематографических форм становится крупный план, определяющий поэтику кино. Отсюда особенное значение у венгра приобретают отдельно взятые кадры, и, как следствие, автор, ведущий посредством монтажа глаза зрителей.
Именно крупный план, поставленный во главу угла, составляет ключевой элемент теории Балаша. За ним следует другой, зависимый от первого: ракурс, который есть «синтез данности и отношения». Поскольку от ракурса зависит свойство демонстрируемого предмета, постольку имеет выражение и авторское отношение к нему.
Монтаж располагается в третьем ряду. Гипербола изобразительности кадра, подчеркнутая крупным планом и ракурсом, черпает себя из дюлаковских суждений о «визуалистской» природе кинематографа. Как следствие, монтаж в восприятии Балаша исключает всякое механическое понимание, ибо кадры «нельзя сопрягать» по литературной схеме. Не монтаж определяет качество визуального ряда, а каждые конкретные кадры непременно диктуют своей внутренней динамикой схему монтажного построения. В результате теория венгерского автора, высказанная в «Видимом человеке», санкционирует перекос в сторону безмонтажности, позже аккумулированной в теории плана-эпизода Базена. Впрочем, сам теоретик, по словам Аристарко, таких крайних утверждений избегает.
Историк пишет, что «даже самого значительного ракурса, указывает Балаш, недостаточно для того, чтобы придать изображению всю его значимость. Эта значимость определяется тогда, когда кадры входят в соприкосновение с другими, она определяется их комбинацией… Таким образом, монтаж становится… именно «творящими ножницами». Балаш ищет компромиссную позицию, где при сохранении отдельно взятого кадра в качестве ключевого элемента киноязыка сущностное значение приобретает и монтажное взаимодействие кадров. Это становится ясно хотя бы из следующего суждения. «Мы вкладываем определенное толкование в увиденное даже тогда, когда эти разъясняющие связи нам неизвестны. Кадр при этом попадает в случайный ассоциативный ряд. Опираясь на предыдущий кадр, мы видим в улыбке разнообразные, но всегда определенные психологические оттенки», — пишет Балаш. Наконец, внешний ритм, достигаемый посредством монтажа, возникает именно в результате взаимодействия динамик отдельно взятых кадров (что следует из опыта Деллюка-Дюлак). Именно поэтому, пишет Аристарко, «монтажный ритм может получить свое собственное, независимое, как бы музыкальное значение, которое имеет лишь отдаленное отношение к содержанию».
Сложность компромисса, недостаток и вторичность стилистических исследований Балаша (несколько прикрытые, на мой взгляд, в его труде «Дух фильмы») компенсируется двумя вещами. Первое — новаторский тезис о «рефрене», позже вложенный в костяк системы дистанционного монтажа Пелешяна. Второе — исследование звукового монтажа (также особенно значимого в пелешяновской монтажной системе). Острота ума теоретика позволила выделить в звуковых махинациях эквивалент монтажа изображений: существуют соответственно звуковой крупный план, звуковой ракурс и звуковой монтаж. Первый возникает в результате акцентирования звуков, создающего «новые смысловые связи». Звуковой ракурс уравнивается у Балаша с механическим воспроизведением и раскрывается только в контексте крупного плана: посредством особенной записи возможно выделять звуковые детали, деформируя общий пласт звуков. Звуковой же монтаж предполагает аудио-визуальный контрапункт, сформулированный еще Эйзенштейном.
Балаш признает за асинхронным звукомонтажом наивысшую художественную форму, которая создаст такое положение, при котором «…звуко-монтаж и монтаж кадров, как две мелодии, контрапунктически сольются друг с другом». И вновь симультанность голосов авторов, оперирующих «музыкальной аналогией».
Балаш, равно как Муссинак и советские теоретики (к примеру, тот же Пудовкин), признавал за кинематографом способность к созданию идеального пространства-время, сугубо кинематографического хронотопа, отличающегося от привычных форм восприятия реальности. Однако в этом утверждении существует парадоксальная сложность. Независимо от признаваемой идеальности кинематографического бытия, его творческой сущности, большинство теоретиков оставались сторонниками «реализма». Ибо кинокамера все-таки оперирует образами реальности, усиливая эффект фиксации действительности посредством движения (пусть и идеально кинематографического).
Со времен Канудо, убежденного в способности экрана оголить «самое жизнь», и вплоть до Эйзенштейна, считавшего необходимым «облечь духовный элемент» в формы вполне «конкретные и жизненные», теоретики нащупывали онтологическое единство киноискусства и жизни, которую экран может выразить наиболее полно.
Комплексный анализ формально-технических вопросов в большинстве своем игнорировал онтологическую сторону кино, его, так сказать, сущности (если касался ее, то отвлеченно и противоречиво).
Целый свод подобных вопросов требовал дальнейшего углубления и исследования. Требовал ответов от киномыслителей, не способных в нужный момент эти ответы предоставить.
От частных вопросов о массовом характере экрана и вплоть до фундаментальных, общих: а что такое — кино?
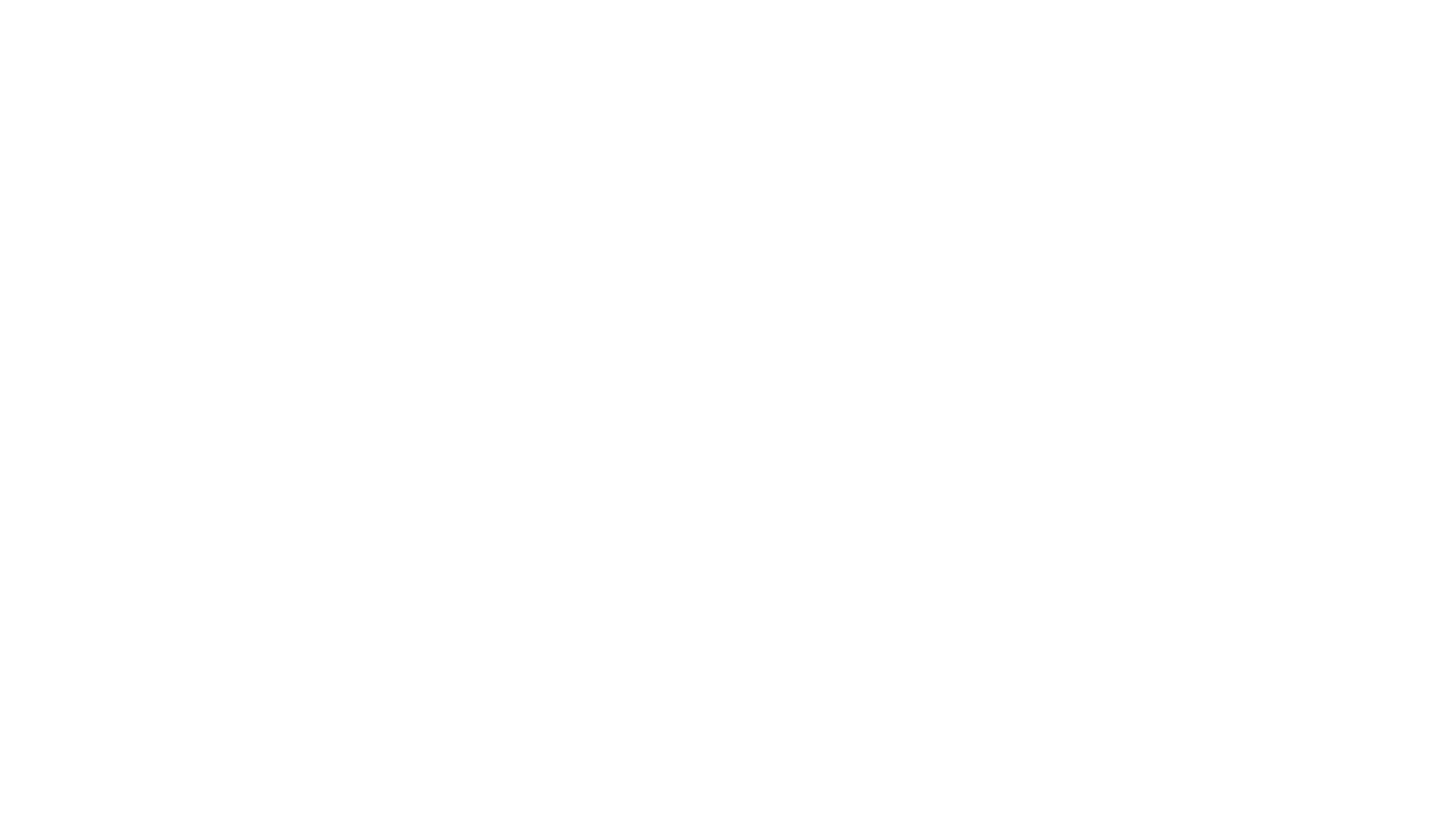
«Прибытии поезда на вокзал Ла-Сьота» (1896) / реж. Огюст и Луи Люмьеры
СУЩЕСТВО КИНО
В зачаточном состоянии онтология киноискусства присутствовала у всех авторов. Другое дело, что она была, мягко говоря, недостаточной, неполной.
Основу заложил Канудо, отвлеченно расписавший свое понимание кинематографа как «чистого» посредника между творчеством, рождающемся из впечатления, и жизнью, являющейся причиной последнего.
Характер развития экранного искусства определял ход мысли итальянского теоретика: первый люмьеровский фильм, как известно, возник на документальном материале. Движение жизни, запечатленное в «Прибытии поезда на вокзал Ла-Сьота» (1896), и впоследствии выступало источником кинематографического творчества. «Мне кажется, что в тот момент и произошло рождение киноискусства», — писал Андрей Тарковский.
Первичный жанр экранного искусства — документализм. Совсем не странно, что большая часть авангардных кинотворцов, двигающих «самое важное из…», обращалась именно к жизненному материалу: от дадаистов с их удачными попытками изваяния изобразительной симфонии (и больше — симфонии жизни) и вплоть до Вертова, оперирующего фактами реальности в своих многочисленных монтажно-хроникальных лентах.
Роль документализма обосновал английский теоретик Джон Грирсон, манифестирующий, что именно «благодаря способности кино наблюдать и отбирать факты «настоящей« жизни может возникнуть новая, весьма жизнеспособная форма искусства». Это справедливо, поскольку «оригинальный (или подлинный) актер и оригинальная (или подлинная) сцена лучше всего помогут кинематографически выразить современный мир «а также «…материал и сюжеты, найденные «на месте «прекраснее, реальнее (в философском смысле) всего того, что передается посредством игры актеров». Иными словами, Грирсон усмотрел в документальном кино (и соответственно — в кино вообще) возможность обретения вечности под знаменем искусства. Сама фиксация жизни, по его утверждениям, имеет вечную ценность.
Однако конструктивный теоретический анализ, обосновывающий жизнеподобие экранного образа в качестве сущностного (и наиболее важного) свойства кино, предстояло еще ждать.
В 1960 году социолог и теоретик кино Зигфрид Кракауэр публикует свою книгу «Теория фильма», в которой жизненность экрана объявляется ключевым параметром определения искусства кино.
«Кино является самим собой лишь в том случае, когда регистрирует и раскрывает окружающую физическую действительность» — считал автор. В понимании Кракауэра кинематограф неизбежно несет в себе фотографическую природу, специфическим достоинством которой является именно жизненность, «естественность» изображения. Отсюда кракауэровская дихотомия Люмьеров-Мельеса, в общем смысле означающая конфликт «реального» и «искусственного», творческого. Дихотомия, впрочем, разрешенная в частном порядке через проблему творческой способности художника. Анализируя исследование Кракауэра Аристарко пишет: «Фотограф, по мнению Кракауэра, опирается на собственную индивидуальность не для того, чтобы выразить ее в «самостоятельных» творческих произведениях, а чтобы растворить ее в сущности окружающих его со всех сторон предметов… Следовательно, «стремление к творчеству» вовсе не обязательно должно противоречить «стремлению к реальному». Наоборот, оно может способствовать усилению этого «стремления к реальному» и его достижению». Поскольку кинематограф онтологически связан с фотографией, те же выводы допустимы и в его отношении. Таким образом, Кракауэр по-вертовски разрешает парадокс Дюлак-Шометта о творческом кино, которое при этом может (и должно) быть искусством, черпающем самое себя из жизненной реальности.
Однако не Кракауэру принадлежит первенство в подобных рассуждениях. Французский критик и теоретик кино, один из основоположников французской «новой волны» Андре Базен в своем труде «Что такое кино?» в первых главах обнаруживает схожие позиции к определению кинематографического языка. Представляя читателю тезис о так называемом «комплексе мумии», свойственном изобразительному искусству вообще (т.е. стремление запечатлеть, «мумифицировать» видимую реальность), он ведет следующую логическую линию. Фотографическая природа кинематографа избавила изобразительное искусство от нарочитой необходимости в прямом «копировании реальности». Критик писал: «Отныне паскалевское осуждение живописи утрачивает свой смысл, ибо, с одной стороны, фотография позволяет нам восхищаться изображением вещей, которые сами по себе не привлекли бы нашего взгляда, живопись же восхищает нас как чистый предмет, уже не требующий, чтобы его соотносили с природой». Благодаря фотографии изобразительные искусства обрели самое себя — вне стремлений к внешнему натурализму, в пределах собственных форм. Живопись, скульптура и другие наконец смогли обратиться вовнутрь своих условных природ, оказались представлены сами себе — и сами для себя. Базен отмечает, что «совершенство, экономность и легкость фотографии способствовали в конечном итоге повышению ценности живописи, подтвердили всю ее незаменимую специфичность». То же произошло с театром и литературой: и в первом, и во втором случаях именно кино, будучи искусством масс, способствовало самосознанию слова и сцены, избавив их, с одной стороны, от побуждений к натурализму, а с другой — от низменной необходимости пошлого развлечения. «Публика, с которой сталкиваются ныне гастролеры, пресытилась благодаря кинематографу роскошью исполнительского состава и мизансцены и, как говорится, опомнившись, ждет теперь от театра и больше и в то же время меньше» — пишет Базен. Конкурентная борьба экрана и сцены, слова и кинокадра привела к фиксации границ искусств, к осознанию их собственных форм и возможностей. Театр, обнаружив присущую ему неспособность к подлинной репрезентации действительности, избавившись от напускного натурализма, с недавних пор трактует это свое несовершенство уже как безусловное достоинство и специфический способ творчества.
Впрочем, о самом экранном искусстве теоретик по-муссинаковски заявляет: «Кино еще не изобретено!».
Для Базена, чьи мысли частью повторяет и Кракауэр (к примеру, в вопросе о роли творческого начала художника), кинематограф остается наиболее полным выразителем «комплекса мумии», мифа интегрального реализма.
Интересно, как категоричность суждений соседствует со столь же категоричным допущением о «неизобретенности» кинематографа. Базен, одним из первых определивший существо экрана, оказывается в области полемической, «компромиссной» мысли. Возникает вопрос, как можно определять существо искусства, завершая это самое определение тезисом о его отсутствии? Ведь в таком случае кино, которое, дескать, еще не изобретено, именоваться искусством не может. Отсюда парадоксальность утверждений, касающихся итальянского неореализма, который активно превозносил, всячески обосновывая, Базен. В этом отношении менее противоречив Кракауэр, углубляющий понимание сущности кино.
Именно тяготение к реальности, которое при этом вполне может совмещаться с творческой потенцией художника, определяет исключительность киноэкрана: другие искусства, как становится ясно из рассуждений Базена, от этого качества планомерно отказались. Впрочем, было ли от чего отказываться? Ведь еще Канудо, коему вторили Деллюк, Муссинак и советские Вертов и Эйзенштейн, заявлял, что другие виды искусства способны лишь на то, «чтобы упростить и стилизовать образы, поразившие воображение людей».
Базеновская онтология кино существенным образом сказалась и на анализе формально-технических вопросов. Так, например, именно Базену принадлежит теоретическое обоснование плана-эпизода в качестве нового достижения кинематографического языка.
Эйзенштейновский перекос в сторону внешнего ритма, монтажа, чуть было поправленный Балашем, в случае с французским теоретиком меняет полярность в направлении к безмонтажности, противостоящей — по его мнению — монтажной насильственности. Монтаж используется автором из соображений диктата, который навязывает зрителю смыслы, подавляя его мыслительную активность. Базен пишет: «Анализируя реальность посредством монтажа в его специфическом качестве, режиссер исходил из того, что драматическое событие обладает однозначным смыслом. Конечно, к тому же событию возможен совершенно иной аналитический подход, но тогда получился бы другой фильм. В общем, монтаж по самому своему существу противостоит выражению многозначности. Кулешов в своем опыте как раз и доказывает это от противного, придавая с помощью монтажа определенное и каждый раз новое значение одному и тому же плану лица, неизменное выражение которого в своей неопределенности разрешает всю эту множественность взаимно исключающих интерпретаций. Глубина кадра, напротив, вновь вводит многозначность в структуру кадра если не как необходимость (фильмы Уайлера не многозначны), то, во всяком случае, как возможность. Вот почему можно без преувеличения сказать, что „Гражданин Кейн“ может мыслиться только построенным в глубину кадра. Неуверенность в том, где же находится ключ к духовному значению и истолкованию этого произведения, воплощается прежде всего в самом рисунке кадра».
В этом формальном вопросе Базен одним из первых подходит к концепции художественного образа Тарковского, вложенной последним в костяк самостоятельной теории кино. Интересно, что идейные источники в этом случае равны в той же мере — и Базен, и Тарковский явно вторят ролан-бартовскому тезису о смерти автора.
Однако вернемся к французскому теоретику.
Основу заложил Канудо, отвлеченно расписавший свое понимание кинематографа как «чистого» посредника между творчеством, рождающемся из впечатления, и жизнью, являющейся причиной последнего.
Характер развития экранного искусства определял ход мысли итальянского теоретика: первый люмьеровский фильм, как известно, возник на документальном материале. Движение жизни, запечатленное в «Прибытии поезда на вокзал Ла-Сьота» (1896), и впоследствии выступало источником кинематографического творчества. «Мне кажется, что в тот момент и произошло рождение киноискусства», — писал Андрей Тарковский.
Первичный жанр экранного искусства — документализм. Совсем не странно, что большая часть авангардных кинотворцов, двигающих «самое важное из…», обращалась именно к жизненному материалу: от дадаистов с их удачными попытками изваяния изобразительной симфонии (и больше — симфонии жизни) и вплоть до Вертова, оперирующего фактами реальности в своих многочисленных монтажно-хроникальных лентах.
Роль документализма обосновал английский теоретик Джон Грирсон, манифестирующий, что именно «благодаря способности кино наблюдать и отбирать факты «настоящей« жизни может возникнуть новая, весьма жизнеспособная форма искусства». Это справедливо, поскольку «оригинальный (или подлинный) актер и оригинальная (или подлинная) сцена лучше всего помогут кинематографически выразить современный мир «а также «…материал и сюжеты, найденные «на месте «прекраснее, реальнее (в философском смысле) всего того, что передается посредством игры актеров». Иными словами, Грирсон усмотрел в документальном кино (и соответственно — в кино вообще) возможность обретения вечности под знаменем искусства. Сама фиксация жизни, по его утверждениям, имеет вечную ценность.
Однако конструктивный теоретический анализ, обосновывающий жизнеподобие экранного образа в качестве сущностного (и наиболее важного) свойства кино, предстояло еще ждать.
В 1960 году социолог и теоретик кино Зигфрид Кракауэр публикует свою книгу «Теория фильма», в которой жизненность экрана объявляется ключевым параметром определения искусства кино.
«Кино является самим собой лишь в том случае, когда регистрирует и раскрывает окружающую физическую действительность» — считал автор. В понимании Кракауэра кинематограф неизбежно несет в себе фотографическую природу, специфическим достоинством которой является именно жизненность, «естественность» изображения. Отсюда кракауэровская дихотомия Люмьеров-Мельеса, в общем смысле означающая конфликт «реального» и «искусственного», творческого. Дихотомия, впрочем, разрешенная в частном порядке через проблему творческой способности художника. Анализируя исследование Кракауэра Аристарко пишет: «Фотограф, по мнению Кракауэра, опирается на собственную индивидуальность не для того, чтобы выразить ее в «самостоятельных» творческих произведениях, а чтобы растворить ее в сущности окружающих его со всех сторон предметов… Следовательно, «стремление к творчеству» вовсе не обязательно должно противоречить «стремлению к реальному». Наоборот, оно может способствовать усилению этого «стремления к реальному» и его достижению». Поскольку кинематограф онтологически связан с фотографией, те же выводы допустимы и в его отношении. Таким образом, Кракауэр по-вертовски разрешает парадокс Дюлак-Шометта о творческом кино, которое при этом может (и должно) быть искусством, черпающем самое себя из жизненной реальности.
Однако не Кракауэру принадлежит первенство в подобных рассуждениях. Французский критик и теоретик кино, один из основоположников французской «новой волны» Андре Базен в своем труде «Что такое кино?» в первых главах обнаруживает схожие позиции к определению кинематографического языка. Представляя читателю тезис о так называемом «комплексе мумии», свойственном изобразительному искусству вообще (т.е. стремление запечатлеть, «мумифицировать» видимую реальность), он ведет следующую логическую линию. Фотографическая природа кинематографа избавила изобразительное искусство от нарочитой необходимости в прямом «копировании реальности». Критик писал: «Отныне паскалевское осуждение живописи утрачивает свой смысл, ибо, с одной стороны, фотография позволяет нам восхищаться изображением вещей, которые сами по себе не привлекли бы нашего взгляда, живопись же восхищает нас как чистый предмет, уже не требующий, чтобы его соотносили с природой». Благодаря фотографии изобразительные искусства обрели самое себя — вне стремлений к внешнему натурализму, в пределах собственных форм. Живопись, скульптура и другие наконец смогли обратиться вовнутрь своих условных природ, оказались представлены сами себе — и сами для себя. Базен отмечает, что «совершенство, экономность и легкость фотографии способствовали в конечном итоге повышению ценности живописи, подтвердили всю ее незаменимую специфичность». То же произошло с театром и литературой: и в первом, и во втором случаях именно кино, будучи искусством масс, способствовало самосознанию слова и сцены, избавив их, с одной стороны, от побуждений к натурализму, а с другой — от низменной необходимости пошлого развлечения. «Публика, с которой сталкиваются ныне гастролеры, пресытилась благодаря кинематографу роскошью исполнительского состава и мизансцены и, как говорится, опомнившись, ждет теперь от театра и больше и в то же время меньше» — пишет Базен. Конкурентная борьба экрана и сцены, слова и кинокадра привела к фиксации границ искусств, к осознанию их собственных форм и возможностей. Театр, обнаружив присущую ему неспособность к подлинной репрезентации действительности, избавившись от напускного натурализма, с недавних пор трактует это свое несовершенство уже как безусловное достоинство и специфический способ творчества.
Впрочем, о самом экранном искусстве теоретик по-муссинаковски заявляет: «Кино еще не изобретено!».
Для Базена, чьи мысли частью повторяет и Кракауэр (к примеру, в вопросе о роли творческого начала художника), кинематограф остается наиболее полным выразителем «комплекса мумии», мифа интегрального реализма.
Интересно, как категоричность суждений соседствует со столь же категоричным допущением о «неизобретенности» кинематографа. Базен, одним из первых определивший существо экрана, оказывается в области полемической, «компромиссной» мысли. Возникает вопрос, как можно определять существо искусства, завершая это самое определение тезисом о его отсутствии? Ведь в таком случае кино, которое, дескать, еще не изобретено, именоваться искусством не может. Отсюда парадоксальность утверждений, касающихся итальянского неореализма, который активно превозносил, всячески обосновывая, Базен. В этом отношении менее противоречив Кракауэр, углубляющий понимание сущности кино.
Именно тяготение к реальности, которое при этом вполне может совмещаться с творческой потенцией художника, определяет исключительность киноэкрана: другие искусства, как становится ясно из рассуждений Базена, от этого качества планомерно отказались. Впрочем, было ли от чего отказываться? Ведь еще Канудо, коему вторили Деллюк, Муссинак и советские Вертов и Эйзенштейн, заявлял, что другие виды искусства способны лишь на то, «чтобы упростить и стилизовать образы, поразившие воображение людей».
Базеновская онтология кино существенным образом сказалась и на анализе формально-технических вопросов. Так, например, именно Базену принадлежит теоретическое обоснование плана-эпизода в качестве нового достижения кинематографического языка.
Эйзенштейновский перекос в сторону внешнего ритма, монтажа, чуть было поправленный Балашем, в случае с французским теоретиком меняет полярность в направлении к безмонтажности, противостоящей — по его мнению — монтажной насильственности. Монтаж используется автором из соображений диктата, который навязывает зрителю смыслы, подавляя его мыслительную активность. Базен пишет: «Анализируя реальность посредством монтажа в его специфическом качестве, режиссер исходил из того, что драматическое событие обладает однозначным смыслом. Конечно, к тому же событию возможен совершенно иной аналитический подход, но тогда получился бы другой фильм. В общем, монтаж по самому своему существу противостоит выражению многозначности. Кулешов в своем опыте как раз и доказывает это от противного, придавая с помощью монтажа определенное и каждый раз новое значение одному и тому же плану лица, неизменное выражение которого в своей неопределенности разрешает всю эту множественность взаимно исключающих интерпретаций. Глубина кадра, напротив, вновь вводит многозначность в структуру кадра если не как необходимость (фильмы Уайлера не многозначны), то, во всяком случае, как возможность. Вот почему можно без преувеличения сказать, что „Гражданин Кейн“ может мыслиться только построенным в глубину кадра. Неуверенность в том, где же находится ключ к духовному значению и истолкованию этого произведения, воплощается прежде всего в самом рисунке кадра».
В этом формальном вопросе Базен одним из первых подходит к концепции художественного образа Тарковского, вложенной последним в костяк самостоятельной теории кино. Интересно, что идейные источники в этом случае равны в той же мере — и Базен, и Тарковский явно вторят ролан-бартовскому тезису о смерти автора.
Однако вернемся к французскому теоретику.
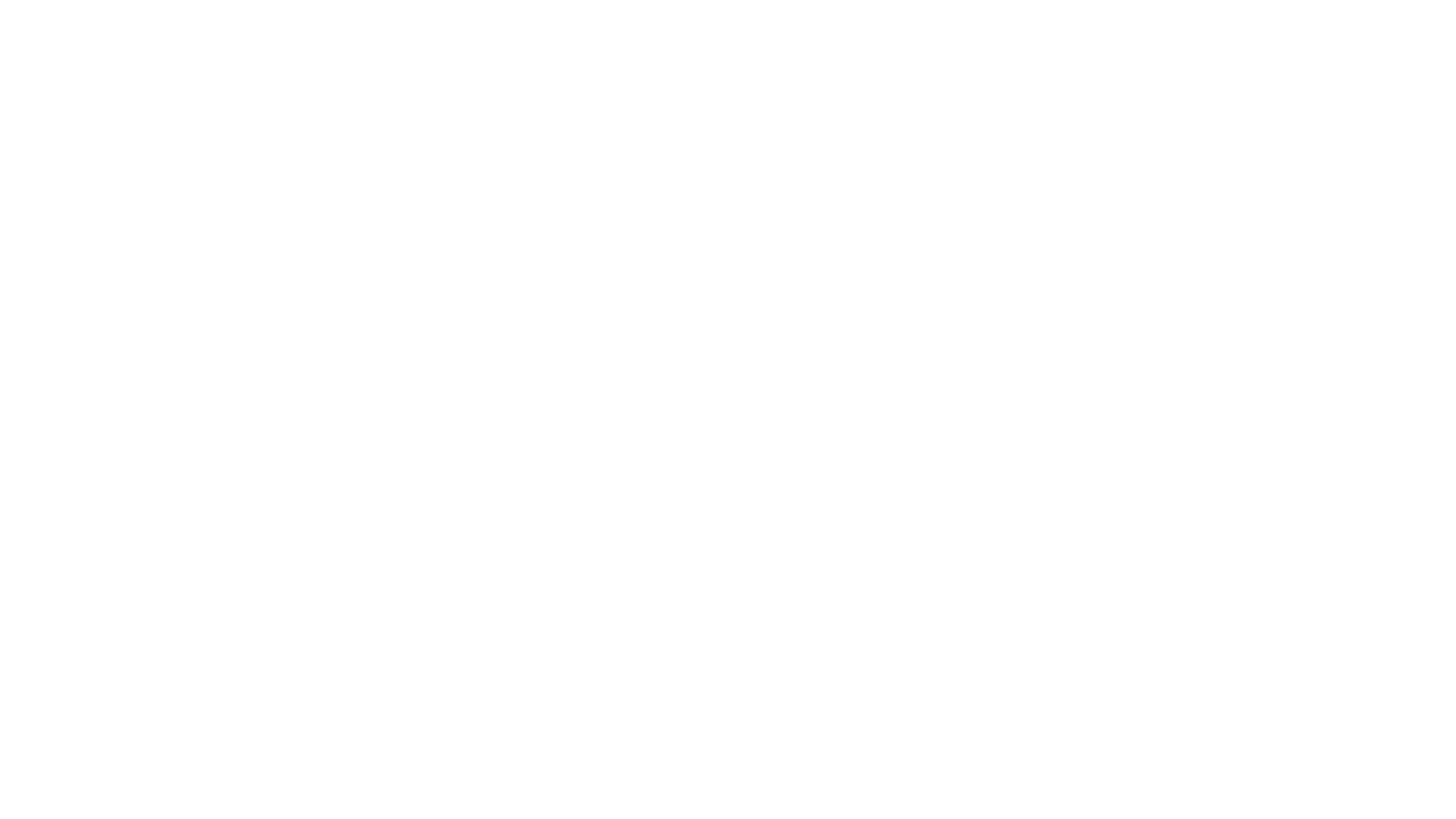
«Великолепные Амберсоны» (1946) / реж. Орсон Уэллс
Применительно к плану-эпизоду советский исследователь Илья Вайсфельд пишет, что «Базен устанавливает жесткие ограничения, совсем в духе прокрустова ложа: он считает пройденным этап монтажного кинематографа; наступает время безмонтажного фильма, свободного от интерпретации, трактовки, предлагаемой художником своей аудитории». В качестве доказательства он приводит цитату: «Как в области пластического содержания кадра, так и в области монтажа кино располагало арсеналом средств, чтобы навязывать зрителю свою интерпретацию изображаемого события. К концу немого периода этот арсенал был полностью освоен».
Прав ли Вайсфельд, обвиняя Базена в умерщвлении монтажного кино? Не думаю. Теоретик неоднократно подчеркивал, что монтаж — лишь одна из форм кинематографического языка. Освоение монтажа отнюдь не означает отказ от него. Так, например, Базен обнаруживает монтажную природу в изобразительном решении единого плана в фильме Орсона Уэллса «Великолепные Амберсоны» (1946): «…современный режиссер, используя план-эпизод с глубинной мизансценой, не отказывается от монтажа (он не мог бы этого сделать, не возвращаясь к примитивному бормотанию), но включает его в изобразительное решение кадра». Теоретик считает, что «Уэллс не отказывается от экспрессионистического использования монтажа, но употребляет его лишь от случая к случаю, между „планами-эпизодами“, что и сообщает монтажу новый смысл». Таким образом, монтаж вовсе не исключается Базеном. Цель французского критика — обозначить явление нового «слова» в кинематографическом языке; определить новый этап развития кино.
Однако было бы слишком поспешным решение ограничиться столь неоднозначным выводом.
Базен, отстаивающий концепцию плана-эпизода, существенным образом преобразует привычную конфигурацию «языковых» компонентов киноискусства. Во главу угла ставится уже не монтаж, но отдельно взятый кадр, диктующий монтажное построение (или вовсе его исключающий). Монтаж не ушел из кино. Он лишь опустился на порядок ниже в киноэстетической иерархии.
Явление плана-эпизода в базеновской теории тесно сплетено с реалистической ориентацией киноискусства. «Благодаря глубине изображенного в кадре пространства зритель оказывается по отношению к экрану в положении, более близко напоминающем его отношение к реальной действительности. Поэтому можно сказать, что, даже независимо от содержания кадра, его структура становится более реалистической», — пишет автор. Освобождение других искусств от потенций реализма, о котором столь красноречиво писал Базен, определило природу кинематографа, целокупно погруженного в жизнь. В этом смысле еще более неоправданными читаются его мысли о «неизобретенности» кино; сам теоретик не раз подчеркнет, что кинематограф потому и является искусством, что напрямую связан с жизнью.
Позволю себе небольшое отвлечение. При знакомстве с фильмами Дзиги Вертова зритель обыкновенно ощущает нечто совсем отличное от экранной галлюцинации, диктуемой избитым представлением о кино как об «искусстве грез». Так, во всяком случае, было с автором настоящих строк: на экране динамично плясала не мечта, но живая палитра человеческого существования. Люди ходят смотреть фильмы не для того, чтобы хотя бы ненадолго забыться, променять реальность на идеальное бытие экрана. Нет! В своей привычной жизни человек обыкновенно перестает ощущать действительность, которая обращается для него повседневной рутиной. Сама жизнь, иными словами, притупляет ощущение жизни. Подлинный, «чистый» кинематограф представляет зрителям возможность ощутить собственную реальность сызнова. В кино люди вновь принимают жизнь. И именно этот факт делает кинематограф подлинным, наивысшим искусством.
Прав ли Вайсфельд, обвиняя Базена в умерщвлении монтажного кино? Не думаю. Теоретик неоднократно подчеркивал, что монтаж — лишь одна из форм кинематографического языка. Освоение монтажа отнюдь не означает отказ от него. Так, например, Базен обнаруживает монтажную природу в изобразительном решении единого плана в фильме Орсона Уэллса «Великолепные Амберсоны» (1946): «…современный режиссер, используя план-эпизод с глубинной мизансценой, не отказывается от монтажа (он не мог бы этого сделать, не возвращаясь к примитивному бормотанию), но включает его в изобразительное решение кадра». Теоретик считает, что «Уэллс не отказывается от экспрессионистического использования монтажа, но употребляет его лишь от случая к случаю, между „планами-эпизодами“, что и сообщает монтажу новый смысл». Таким образом, монтаж вовсе не исключается Базеном. Цель французского критика — обозначить явление нового «слова» в кинематографическом языке; определить новый этап развития кино.
Однако было бы слишком поспешным решение ограничиться столь неоднозначным выводом.
Базен, отстаивающий концепцию плана-эпизода, существенным образом преобразует привычную конфигурацию «языковых» компонентов киноискусства. Во главу угла ставится уже не монтаж, но отдельно взятый кадр, диктующий монтажное построение (или вовсе его исключающий). Монтаж не ушел из кино. Он лишь опустился на порядок ниже в киноэстетической иерархии.
Явление плана-эпизода в базеновской теории тесно сплетено с реалистической ориентацией киноискусства. «Благодаря глубине изображенного в кадре пространства зритель оказывается по отношению к экрану в положении, более близко напоминающем его отношение к реальной действительности. Поэтому можно сказать, что, даже независимо от содержания кадра, его структура становится более реалистической», — пишет автор. Освобождение других искусств от потенций реализма, о котором столь красноречиво писал Базен, определило природу кинематографа, целокупно погруженного в жизнь. В этом смысле еще более неоправданными читаются его мысли о «неизобретенности» кино; сам теоретик не раз подчеркнет, что кинематограф потому и является искусством, что напрямую связан с жизнью.
Позволю себе небольшое отвлечение. При знакомстве с фильмами Дзиги Вертова зритель обыкновенно ощущает нечто совсем отличное от экранной галлюцинации, диктуемой избитым представлением о кино как об «искусстве грез». Так, во всяком случае, было с автором настоящих строк: на экране динамично плясала не мечта, но живая палитра человеческого существования. Люди ходят смотреть фильмы не для того, чтобы хотя бы ненадолго забыться, променять реальность на идеальное бытие экрана. Нет! В своей привычной жизни человек обыкновенно перестает ощущать действительность, которая обращается для него повседневной рутиной. Сама жизнь, иными словами, притупляет ощущение жизни. Подлинный, «чистый» кинематограф представляет зрителям возможность ощутить собственную реальность сызнова. В кино люди вновь принимают жизнь. И именно этот факт делает кинематограф подлинным, наивысшим искусством.
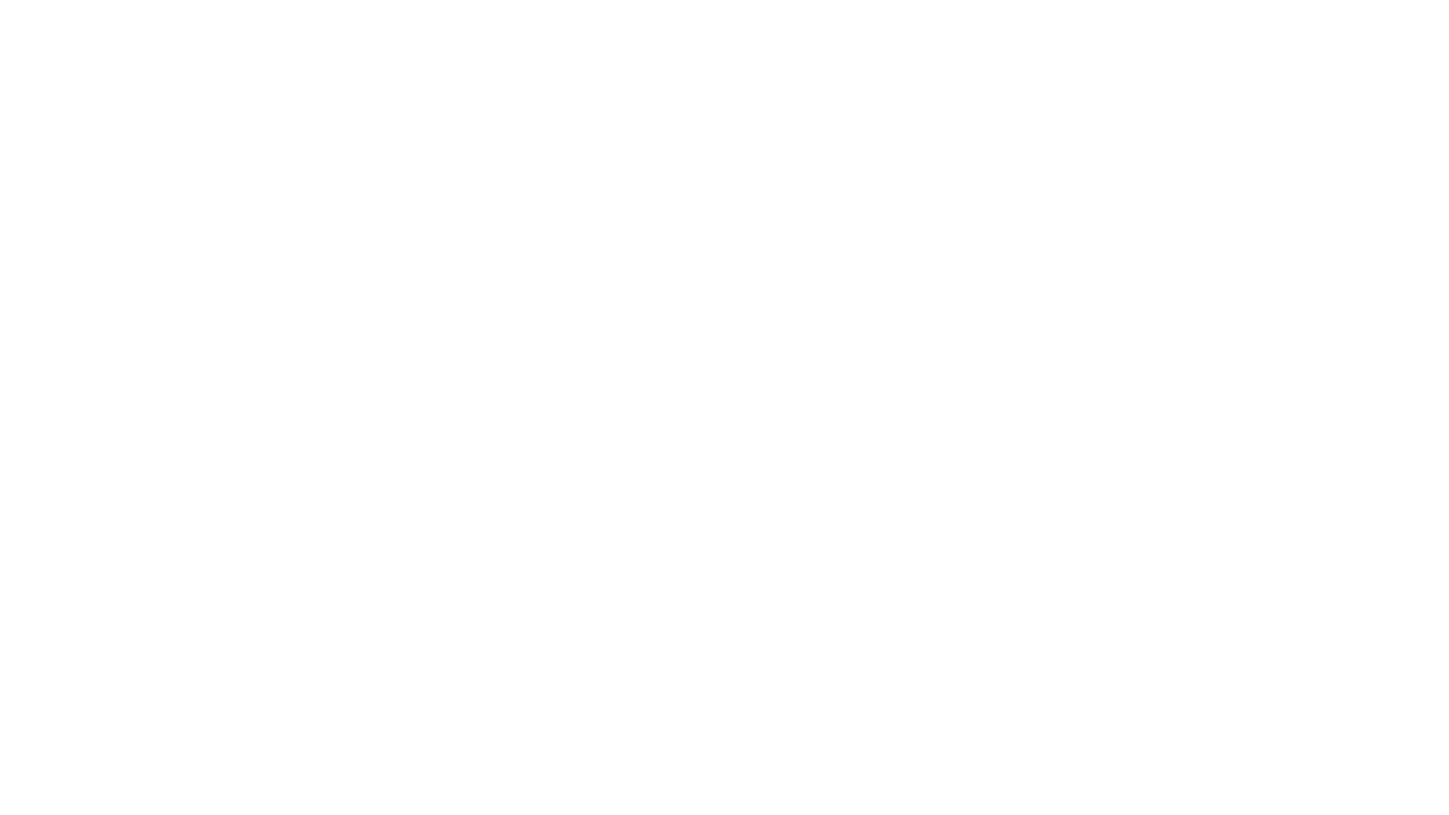
«Зеркало» (1974) / реж. Андрей Тарковский
ТАРКОВСКИЙ И ПЕЛЕШЯН — ПРОДОЛЖАТЕЛИ АВАНГАРДНОЙ ТЕОРИИ
Искусство устремлено к жизни. Именно из жизненного впечатления — реакции на жизнь и действительность — произрастает творческий акт и, как следствие, произведение подлинного искусства. Тем подлиннее это искусство, чем ближе оно к чистому впечатлению, к подлинной жизни. И тем, значит, абсолютнее, чем оно — опосредованно через то же самое впечатление — ближе к жизненному абсолюту. Такова эстетическая логика Канудо, вознесшая кинематограф на главенствующие позиции среди всех искусств. Этой же логикой, кочующей из суждений в суждение (от Канудо и вплоть до Кракауэра с Базеном), пропитаны теоретические выкладки Тарковского и Пелешяна — ключевых лиц кинотеории второй половины — конца XX века.
Первый аккумулировал широчайший опыт теоретических исканий прошлого, подытожил складывание сущностной азбуки кино как искусства. Второй, в свою очередь, добился углубления этой самой азбуки, привнеся в нее новое монтажное мышление. Мышление, в целостности передающее давние искания первых теоретиков.
Андрей Тарковский в своих «Лекциях по кинорежиссуре», частью повторяющих структуру деллюковского текста, добился качественного вызревания теории кино, которую множество раз силились сформулировать авторы прошлого. В довольно кратком изложении, избегая словесных излишеств, советский режиссер обнаруживает целостную систему киноязыка: от онтологических вопросов, касающихся кинообраза, вплоть до формально-технических, вскрывающих специфику работы режиссера в кино.
Относительно первым наиболее важным достижением является учение Тарковского о художественном образе. «Художественный образ может называться так только в том случае, если он замкнут в себе, герметичен и самоценен, невозможен для толкования, ибо он является образом самой жизни, которая тоже не поддается прямолинейному трактованию… Истинно художественный образ всегда побуждает созерцающего его к единовременному переживанию противоречивых, взаимоисключающих чувств, заключенных в образе и определяющих его суть и лжеметафизическую магию», — считал режиссер.
Многотрактуемость, не ограниченная «пределами идеологическими, концепционными», составляет сущностную черту подлинного художественного образа. Ибо «каждый раз, когда сталкиваешься с глубоким произведением искусства всегда поражаешься тому, что каждый раз воспринимаешь его по-разному, совершенно по-новому». В этом отношении режиссер — возможно, непроизвольно — повторяет логику суждений Ролана Барта, известившего о «смерти автора», наступающей при рождении читателя/зрителя. Вместо стремления «быть понятым», Тарковский избирает путь авторской искренности, которая не модулирует зрительскую мысль, а наоборот провоцирует смотрящего на субъективные размышления и переживания. Именно зритель становится ключевым компонентом кинематографического процесса смыслообразования. Таким образом, режиссер дублирует высказанные Базеном суждения, направленные против авторского диктата. Обращаясь к природе образа в контексте киноискусства Тарковский формулирует тезис о «запечатленном времени». Он считал, что «у кино нет своего языка в смысле некой системы иероглифов. Кино не оперирует языком, оно оперирует реальностью (ибо время — есть реальность), образами текущего времени. Способность вжиться во время — это и есть способность к кинематографии». В борьбе с синтетической трактовкой киноискусства, он — с чувством личного долга и с осознанием себя в качестве самостоятельного кинохудожника — обосновывает представление о кино как о подлинном искусстве. «Говорят, что кино есть искусство синтетическое, что оно основано на соучастии многих смежных искусств, как-то: драмы, прозы, актерского творчества, живописи, музыки и т. д. Но на деле оказывается, что эти искусства своим „соучастием“ способны так страшно ударить по кинематографу, что он может мгновенно превратиться в эклектическую неразбериху или (в лучшем случае) в мнимую гармонию, где нельзя найти действительную душу кинематографа, потому что она именно в этот момент и погибает. Стоит раз и навсегда уяснить, что кино не должно быть простым сочетанием принципов разных смежных искусств, и уже после этого можно решать вопрос о том, что же такое синтетичность киноискусства. Кинематографический образ не получится из сложения хода литературной мысли с живописной пластикой — возникнет эклектичность, либо невыразительная, либо высокопарная. Также и законы движения и организация времени в фильме не должны подменяться законами сценического времени».
Из определения художественной полноценности кино режиссер доказывает его суверенитет, без сомнений отсекая суждения противоположного порядка.
Обращение к подлинной жизни, к самой реальности, в результате чего только и возможно творение подлинного художественного образа (кинообраза) — это и все вышеперечисленное выдает в Тарковском безусловного наследника французского авангарда. Авангарда, находящегося в поиске «самое жизнь посредством движения». Показательно, что Тарковский в статье «Запечатленное время» приводит в качестве конструктивного примера своих взглядов фильм Люмьеров «Прибытие поезда». «…Люмьеровские фильмы таили в себе гениальность эстетического принципа. А сразу после них кинематограф пошел по мнимохудожественному пути, который был ему навязан, по пути, наиболее верному с точки зрения обывательского интереса и выгоды…», а также — «идеальным кинематографом мне представляется хроника: в ней я вижу не способ съемки, а способ восстановления, воссоздания жизни». В этих цитатах вскрывается целый комплекс ассоциаций: от канудо-деллюковской фотогении и вплоть до Кракауэра с его «Теорией фильма».
Тарковский не чурался «музыкальной аналогии», свойственной большинству теоретиков. Однако режиссер решает задачу компромиссно, преодолевая, с одной стороны, гиперболу музыкальности Рихтера-Дюлак, а с другой — агрессивный антагонизм Вертова. «Из других искусств относительно близким к кино оказывается музыка: в ней проблема времени также принципиальна. Но решается она там совершенно иначе: жизненная материальность в музыке находится на грани своего полного исчезновения. А сила кинематографа как раз в том и состоит, что время берется в реальной и неразрывной связи с самой материей действительности, окружающей нас вседневно и всечасно», — писал Тарковский. Таким образом, режиссер добивается ключевого (относительно сущности аналогии) вывода: музыкальный ритм, расположенный в чувственно-ирреальном пространстве, там, где выражается «состояние души», менее значителен в сравнении с ритмом кинематографическим, способным оголить не только внутреннюю душевную организацию автора или его персонажей, но также и динамику самой жизни, ее, так сказать, сущностную полноту. Другими словами, кино (пусть частью и повторяющее ритмическую природу музыки) в отличие от музыкального искусства более объемно, обширно. И обширно настолько, что, в конечном счете, способно подчинить своим законам иные художества. В этом утверждении вскрывается «экспансионистский» аргумент в пользу суверенности киноискусства. («Экспансионизм» этот скорее вертовский, поскольку именно кинокам принадлежит тезис о возможности «подкопа кинематографии под литературу, под театр…», хотя эти функции кино несомненно «побочные… отходящие от него ответвления»).
Постоянно подчеркивая самобытность киноискусства Тарковский впритык подходит к канудовскому признанию кино в качестве высшего из искусств. Это проявляется также и в вопросе сопоставления кинематографа и музыки. «Движение кинокадра имеет свою природу, отличную от музыкального звука», а значит и музыкальное употребление в конечном счете оказывается подчиненным кинематографическим целям. В качестве примера Тарковский использует эйзенштейновскую ленту «Иван Грозный», в которой «чередование монтажных кусков, смена планов, сочетание изображения и звука — все это разработано так тонко, так строго и так закономерно, как разрабатывает себя только музыка». Возникает идейная ассоциация с двумя лицами: с венгерским теоретиком Белой Балашем, обосновавшим принципы звукового монтажного построения, и с Сергеем Эйзенштейном, одним из первых открывшего возможности музыкального и звукового монтажа, в котором собственно музыкальное подчинялось законам кинематографическим.
Тарковский, впрочем, последнего жалует не сильно. Активно критикуя умозрительность монтажной концепции Эйзенштейна, он обращается к позициям визуализистов с их гиперболой отдельно взятого кадра. Режиссер пишет, что «сочленение кадров разного временного напряжения должно вызываться не произволом художника, а внутренней необходимостью, должно быть органично для материала в целом». Этот формально-технический тезис по-базеновски вытекает из онтологического обозрения Тарковского киноискусства. Вытекает с тем, чтобы увлажнить почву собственных кинематографических свершений.
Режиссер относился к сотворяемым им самим мирам с позиций самостоятельности экранного бытия, внешней и внутренней жизни фильма, допускал возможность иного кинематографического движения, отличного от первоначального авторского замысла (отсюда и качественная инаковость всех его фильмов, подчеркнутая режиссером в своих рассуждениях на предмет фильмов «Зеркало» и «Андрей Рублев»). Ф. Степун, по словам критика Сергея Добротворского в статье «Смерть за работой», писал следующее: «Сознающему себя Божьим созданием человеку вряд ли было бы возможно так самовольно перекраивать мир, как того требует прометеевская метафизика подлинно художественного фильма». И Тарковский, конечно, «Божье создание».
Авторское тяготение к длинным, «затянутым» планам, утвержденных статичной, недвижимой камерой обнаруживает связь с базеновской теорией плана-эпизода. И, как выше уже было сказано, идут теоретики в этом отношении рука об руку.
Тарковский, таким образом, опрокидывает муссинаковский акцент на внешний ритм, возникающий из монтажного построения кадров (а следовательно продолжает критику Эйзенштейна). Он ориентируется на внутреннюю динамику отдельно взятых кадров, ритмическая целокупность которых определяется именно изнутри, диктуется внутрикадровой «необходимостью». Подобная позиция обосновывается и в его следующих словах. «Соединение неравноправных во временном смысле кусков неизбежно ведет к ритмическому сбою. Однако сбой этот, если он подготовлен внутренней жизнью соединяемых кадров, может стать и необходимым для того, чтобы вычленить нужный ритмический рисунок», — считал Тарковский.
Поскольку «Курс…» советского режиссера предназначен в первую очередь для раскрытия теоретических основ именно кинорежиссуры, в нем в большей степени уделено внимание вопросам практического, формально-технического порядка: от способа конструирования и выработки авторского замысла и вплоть до специфики цветовой композиции кадра.
Особенный интерес вызывает последний вопрос. Последовательно сохраняя ключевой тезис о художественной самодостаточности кинематографа, Тарковский пишет: «кинематограф, как новое искусство, порвал с традициями живописи и нет надобности, на мой взгляд, реставрировать эту связь». А также, — «к цвету в кино надо относится эмоционально, чтобы создавать определенные цветовые состояния природа, мира. Поэтому условный цвет в кино невозможен, он разрушит натуралистичность реальности». «Живописная аналогия», культивированная операторским мышлением (примером может послужить Владимир Нильсен со своей работой «Кино как графическое искусство»), Тарковским отвергается.
Режиссер буквально не верит в поэтику цвета. По его мнению, именно черно-белая палитра устоялась как своего рода форма реализма; именно она способна к наиболее полному отражению реальности. В диалоге с Козловым на предмет «Соляриса» режиссер отметил, что «когда мы встречаемся с каким-то непривычным, невиданным, экзотическим объектом, то цвет непременно бросается в глаза». В этом случае цвет для Тарковского — способ вскрытия ирреального, такого, которое резко выделяется на фоне обыденной реальности. Это ирреальное обособлено от правды действительности, которая для него лишена цвета, поскольку «в жизни человек не замечает цвета. Вернее, он его и замечает, и не замечает. Вокруг нас — бездна цветовых оттенков, но даже глядя на них, мы их чаще всего не видим, потому что они нам — как таковые — не нужны». Цвет в фильмах Тарковского — способ обратиться к эмоциональному переживанию зрителя, к субъекту. Именно субъективная эмоциональность определяет содержание его картин: их смысл, по-эйзентшейновски вытекающий из эмоции, всегда и всюду зрительно субъективен.
Первый аккумулировал широчайший опыт теоретических исканий прошлого, подытожил складывание сущностной азбуки кино как искусства. Второй, в свою очередь, добился углубления этой самой азбуки, привнеся в нее новое монтажное мышление. Мышление, в целостности передающее давние искания первых теоретиков.
Андрей Тарковский в своих «Лекциях по кинорежиссуре», частью повторяющих структуру деллюковского текста, добился качественного вызревания теории кино, которую множество раз силились сформулировать авторы прошлого. В довольно кратком изложении, избегая словесных излишеств, советский режиссер обнаруживает целостную систему киноязыка: от онтологических вопросов, касающихся кинообраза, вплоть до формально-технических, вскрывающих специфику работы режиссера в кино.
Относительно первым наиболее важным достижением является учение Тарковского о художественном образе. «Художественный образ может называться так только в том случае, если он замкнут в себе, герметичен и самоценен, невозможен для толкования, ибо он является образом самой жизни, которая тоже не поддается прямолинейному трактованию… Истинно художественный образ всегда побуждает созерцающего его к единовременному переживанию противоречивых, взаимоисключающих чувств, заключенных в образе и определяющих его суть и лжеметафизическую магию», — считал режиссер.
Многотрактуемость, не ограниченная «пределами идеологическими, концепционными», составляет сущностную черту подлинного художественного образа. Ибо «каждый раз, когда сталкиваешься с глубоким произведением искусства всегда поражаешься тому, что каждый раз воспринимаешь его по-разному, совершенно по-новому». В этом отношении режиссер — возможно, непроизвольно — повторяет логику суждений Ролана Барта, известившего о «смерти автора», наступающей при рождении читателя/зрителя. Вместо стремления «быть понятым», Тарковский избирает путь авторской искренности, которая не модулирует зрительскую мысль, а наоборот провоцирует смотрящего на субъективные размышления и переживания. Именно зритель становится ключевым компонентом кинематографического процесса смыслообразования. Таким образом, режиссер дублирует высказанные Базеном суждения, направленные против авторского диктата. Обращаясь к природе образа в контексте киноискусства Тарковский формулирует тезис о «запечатленном времени». Он считал, что «у кино нет своего языка в смысле некой системы иероглифов. Кино не оперирует языком, оно оперирует реальностью (ибо время — есть реальность), образами текущего времени. Способность вжиться во время — это и есть способность к кинематографии». В борьбе с синтетической трактовкой киноискусства, он — с чувством личного долга и с осознанием себя в качестве самостоятельного кинохудожника — обосновывает представление о кино как о подлинном искусстве. «Говорят, что кино есть искусство синтетическое, что оно основано на соучастии многих смежных искусств, как-то: драмы, прозы, актерского творчества, живописи, музыки и т. д. Но на деле оказывается, что эти искусства своим „соучастием“ способны так страшно ударить по кинематографу, что он может мгновенно превратиться в эклектическую неразбериху или (в лучшем случае) в мнимую гармонию, где нельзя найти действительную душу кинематографа, потому что она именно в этот момент и погибает. Стоит раз и навсегда уяснить, что кино не должно быть простым сочетанием принципов разных смежных искусств, и уже после этого можно решать вопрос о том, что же такое синтетичность киноискусства. Кинематографический образ не получится из сложения хода литературной мысли с живописной пластикой — возникнет эклектичность, либо невыразительная, либо высокопарная. Также и законы движения и организация времени в фильме не должны подменяться законами сценического времени».
Из определения художественной полноценности кино режиссер доказывает его суверенитет, без сомнений отсекая суждения противоположного порядка.
Обращение к подлинной жизни, к самой реальности, в результате чего только и возможно творение подлинного художественного образа (кинообраза) — это и все вышеперечисленное выдает в Тарковском безусловного наследника французского авангарда. Авангарда, находящегося в поиске «самое жизнь посредством движения». Показательно, что Тарковский в статье «Запечатленное время» приводит в качестве конструктивного примера своих взглядов фильм Люмьеров «Прибытие поезда». «…Люмьеровские фильмы таили в себе гениальность эстетического принципа. А сразу после них кинематограф пошел по мнимохудожественному пути, который был ему навязан, по пути, наиболее верному с точки зрения обывательского интереса и выгоды…», а также — «идеальным кинематографом мне представляется хроника: в ней я вижу не способ съемки, а способ восстановления, воссоздания жизни». В этих цитатах вскрывается целый комплекс ассоциаций: от канудо-деллюковской фотогении и вплоть до Кракауэра с его «Теорией фильма».
Тарковский не чурался «музыкальной аналогии», свойственной большинству теоретиков. Однако режиссер решает задачу компромиссно, преодолевая, с одной стороны, гиперболу музыкальности Рихтера-Дюлак, а с другой — агрессивный антагонизм Вертова. «Из других искусств относительно близким к кино оказывается музыка: в ней проблема времени также принципиальна. Но решается она там совершенно иначе: жизненная материальность в музыке находится на грани своего полного исчезновения. А сила кинематографа как раз в том и состоит, что время берется в реальной и неразрывной связи с самой материей действительности, окружающей нас вседневно и всечасно», — писал Тарковский. Таким образом, режиссер добивается ключевого (относительно сущности аналогии) вывода: музыкальный ритм, расположенный в чувственно-ирреальном пространстве, там, где выражается «состояние души», менее значителен в сравнении с ритмом кинематографическим, способным оголить не только внутреннюю душевную организацию автора или его персонажей, но также и динамику самой жизни, ее, так сказать, сущностную полноту. Другими словами, кино (пусть частью и повторяющее ритмическую природу музыки) в отличие от музыкального искусства более объемно, обширно. И обширно настолько, что, в конечном счете, способно подчинить своим законам иные художества. В этом утверждении вскрывается «экспансионистский» аргумент в пользу суверенности киноискусства. («Экспансионизм» этот скорее вертовский, поскольку именно кинокам принадлежит тезис о возможности «подкопа кинематографии под литературу, под театр…», хотя эти функции кино несомненно «побочные… отходящие от него ответвления»).
Постоянно подчеркивая самобытность киноискусства Тарковский впритык подходит к канудовскому признанию кино в качестве высшего из искусств. Это проявляется также и в вопросе сопоставления кинематографа и музыки. «Движение кинокадра имеет свою природу, отличную от музыкального звука», а значит и музыкальное употребление в конечном счете оказывается подчиненным кинематографическим целям. В качестве примера Тарковский использует эйзенштейновскую ленту «Иван Грозный», в которой «чередование монтажных кусков, смена планов, сочетание изображения и звука — все это разработано так тонко, так строго и так закономерно, как разрабатывает себя только музыка». Возникает идейная ассоциация с двумя лицами: с венгерским теоретиком Белой Балашем, обосновавшим принципы звукового монтажного построения, и с Сергеем Эйзенштейном, одним из первых открывшего возможности музыкального и звукового монтажа, в котором собственно музыкальное подчинялось законам кинематографическим.
Тарковский, впрочем, последнего жалует не сильно. Активно критикуя умозрительность монтажной концепции Эйзенштейна, он обращается к позициям визуализистов с их гиперболой отдельно взятого кадра. Режиссер пишет, что «сочленение кадров разного временного напряжения должно вызываться не произволом художника, а внутренней необходимостью, должно быть органично для материала в целом». Этот формально-технический тезис по-базеновски вытекает из онтологического обозрения Тарковского киноискусства. Вытекает с тем, чтобы увлажнить почву собственных кинематографических свершений.
Режиссер относился к сотворяемым им самим мирам с позиций самостоятельности экранного бытия, внешней и внутренней жизни фильма, допускал возможность иного кинематографического движения, отличного от первоначального авторского замысла (отсюда и качественная инаковость всех его фильмов, подчеркнутая режиссером в своих рассуждениях на предмет фильмов «Зеркало» и «Андрей Рублев»). Ф. Степун, по словам критика Сергея Добротворского в статье «Смерть за работой», писал следующее: «Сознающему себя Божьим созданием человеку вряд ли было бы возможно так самовольно перекраивать мир, как того требует прометеевская метафизика подлинно художественного фильма». И Тарковский, конечно, «Божье создание».
Авторское тяготение к длинным, «затянутым» планам, утвержденных статичной, недвижимой камерой обнаруживает связь с базеновской теорией плана-эпизода. И, как выше уже было сказано, идут теоретики в этом отношении рука об руку.
Тарковский, таким образом, опрокидывает муссинаковский акцент на внешний ритм, возникающий из монтажного построения кадров (а следовательно продолжает критику Эйзенштейна). Он ориентируется на внутреннюю динамику отдельно взятых кадров, ритмическая целокупность которых определяется именно изнутри, диктуется внутрикадровой «необходимостью». Подобная позиция обосновывается и в его следующих словах. «Соединение неравноправных во временном смысле кусков неизбежно ведет к ритмическому сбою. Однако сбой этот, если он подготовлен внутренней жизнью соединяемых кадров, может стать и необходимым для того, чтобы вычленить нужный ритмический рисунок», — считал Тарковский.
Поскольку «Курс…» советского режиссера предназначен в первую очередь для раскрытия теоретических основ именно кинорежиссуры, в нем в большей степени уделено внимание вопросам практического, формально-технического порядка: от способа конструирования и выработки авторского замысла и вплоть до специфики цветовой композиции кадра.
Особенный интерес вызывает последний вопрос. Последовательно сохраняя ключевой тезис о художественной самодостаточности кинематографа, Тарковский пишет: «кинематограф, как новое искусство, порвал с традициями живописи и нет надобности, на мой взгляд, реставрировать эту связь». А также, — «к цвету в кино надо относится эмоционально, чтобы создавать определенные цветовые состояния природа, мира. Поэтому условный цвет в кино невозможен, он разрушит натуралистичность реальности». «Живописная аналогия», культивированная операторским мышлением (примером может послужить Владимир Нильсен со своей работой «Кино как графическое искусство»), Тарковским отвергается.
Режиссер буквально не верит в поэтику цвета. По его мнению, именно черно-белая палитра устоялась как своего рода форма реализма; именно она способна к наиболее полному отражению реальности. В диалоге с Козловым на предмет «Соляриса» режиссер отметил, что «когда мы встречаемся с каким-то непривычным, невиданным, экзотическим объектом, то цвет непременно бросается в глаза». В этом случае цвет для Тарковского — способ вскрытия ирреального, такого, которое резко выделяется на фоне обыденной реальности. Это ирреальное обособлено от правды действительности, которая для него лишена цвета, поскольку «в жизни человек не замечает цвета. Вернее, он его и замечает, и не замечает. Вокруг нас — бездна цветовых оттенков, но даже глядя на них, мы их чаще всего не видим, потому что они нам — как таковые — не нужны». Цвет в фильмах Тарковского — способ обратиться к эмоциональному переживанию зрителя, к субъекту. Именно субъективная эмоциональность определяет содержание его картин: их смысл, по-эйзентшейновски вытекающий из эмоции, всегда и всюду зрительно субъективен.
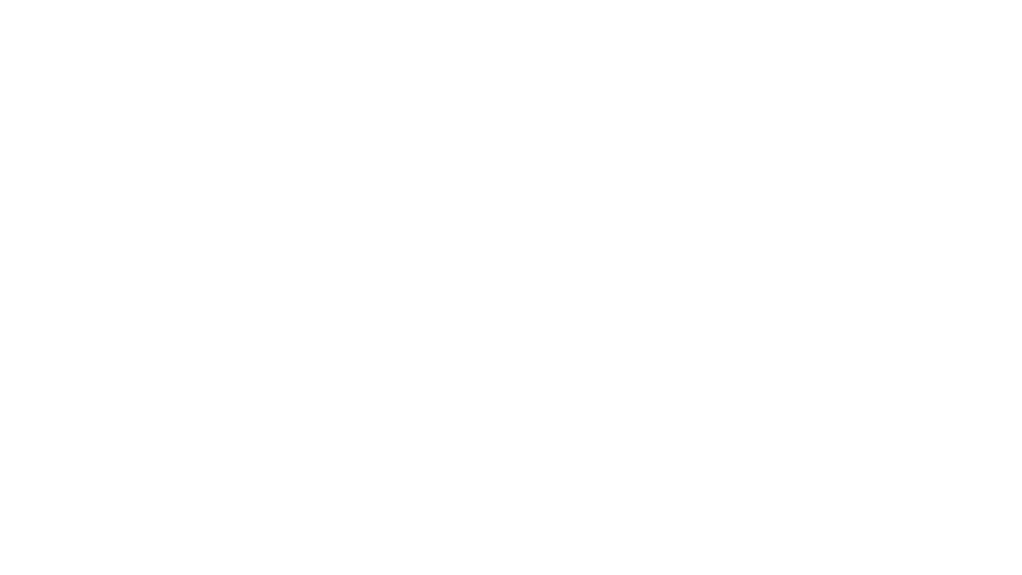
«Мы» (1969) / реж. Артавазд Пелешян
В борьбе за подлинный художественный кинообраз — во всей полноте его ролан-бартовской многотрактуемости — режиссер отмечает противоречивое утверждение о субъективном переживании действительности. Объективной действительности, которая, казалось бы, составляет ресурс кино.
Однако противоречие это только кажущееся. С одной стороны, учение о художественном образе Тарковского онтологически тяготеет к зрительской субъективности. С другой стороны, режиссер повторяет теоретическую конструкцию кракауэровского тезиса о взаимодополняемости творческого начала художника и реальности, которую этот самый художник раскрывает. Жизнь, таким образом, предстает на экране не «неживой» абстрактной материей, а фактом, переживаемым конкретным зрителем; реальность буквально обретает объемность, становясь при участии субъективного прочтения еще более живой, подлинной — реальной!
Жизнь во главе угла; самостоятельность кинематографа, обеспечивающая зрительское право на субъективное восприятие; борьба за собственно кинематографический язык; определение кино в качестве наивысшего искусства — комплексный идейный узел, обусловливающий единство мнений Тарковского и Пелешяна; и больше — обоих теоретиков с авангардными зачинателями кинотеории.
Однако Пелешян, благодаря, несомненно, выдающемуся уму, смог не только теоретически углубить представления Тарковского, но и подтвердить их на практике, снарядив, тем самым, возрождение авангардной интенции.
Продолжая риторику дискредитации других искусств относительно кино, Пелешян пишет, что «…рождение киноискусства не следует рассматривать как синтетическое, механическое или немеханическое слияние разных видов искусств. Не оно рождается от них, а наоборот, они в принципе должны были бы родиться от него — несмотря на то, что известный нам объективный исторический процесс привел к тому, что мы имели, видели и знали «рожденных» раньше, чем «рождающего». Именно кинематограф в его понимании заслуживает качества наивысшего, наизначительнейшего из искусств. Как и теоретики до него, Пелешян концентрирует свое внимание на вопросе монтажа.
Тарковский, выделяя значительность отдельно взятого кадра, отнюдь не отрицал важности монтажного построения. Последнее вытекает из программируемой материалом «необходимости», имея, тем самым, способность к фиксации внутреннего «напряжения времени» всей совокупности кадров — именно поэтому оно не менее значимо. Внутренняя динамика кадров, слагаясь, рождает общий внешний ритм фильма, проявить который возможно только через монтаж. Пелешян продолжил вектор этих суждений, развив их в концепцию дистанционного монтажа. Эта монтажная форма предполагает «киносистему или кинометод для измерения системы авторского миропонимания». Формообразующий принцип кинотворчества, согласно монтажной дистанции, заключается в расклеивании (разложении) монтажного куска и последующее перераспределение таких фрагментов на монтажной плоскости. Эти фрагменты, будучи опорными в монтажной линии, связывают действие на экране, углубляя тем самым содержание и смысл происходящего: каждый опорный пункт предвосхищает последующее движение, которое исполняется новым смысловым и идейным значением. Происходит это благодаря модулированию все новых и новых контекстов. Смена контекстов, окаймляющих ключевые монтажные фрагменты с обеих сторон, с одной стороны строго функциональна, т. е. обеспечивает развитие мысли, с другой стороны повторяет природу самой мысли в сознании человека — хаотичной и одновременно последовательно логичной. В этом понимании кинотворчество Пелешяна можно подвести под термин «интенция». Артавазд Пелешян не просто творит, но мыслит посредством кино. Это и есть смысловое содержание «монтажа контекстов», как его называет сам режиссер.
В пределах дистанционного монтажа проявляется развитие балашевского «рефрена», который в случае максимального напряжения, явно выпирающего акцентирования доходит до самоисключения: это уже не просто навязчивое художественное повторение, идейно статичное, но буквальное развитие смыслового напряжения, сокрытого в повторяемом кадре или блоке кадров. Армянский режиссер доводит до максимальной кондиции рассуждения Эйзенштейна о кино как об искусстве мысли, способного передавать идеи, суждения. Способного, наконец, повторять сам мыслительный процесс человека.
Монтаж контекстов Артавазда Пелешяна, по словам доктора филологический наук Юрия Лотмана, является продолжением эффекта Кулешова (выше упоминался Базеном), который экспериментальным путем показал, что именно от контекста зависит значение последующего кадра. Насколько это сравнение справедливо? Кулешов вскрыл закономерность в условиях, решительно отличных от посылок творчества Пелешяна.
Крупный план Ивана Мозжухина не имел под собой никакой эмоциональной ориентации: в трех случаях лицо актера не менялось и не выражало ничего, кроме факта взгляда. Контекст при этом предшествовал кадру с Мозжухиным, и декодирование фрагмента происходило постфактум. Видимое переживание возникало вне крупного плана актера и определялось дальнейшим контекстным планом. В случае с Пелешяном и его маленькой армянкой, являвшейся в фильмы «Начало» (1967) и «Мы» (1969), контекст выступал подчиненным компонентом и как бы предполагался крупным планом девочки. Последовательность кадров выстроена таким образом, что именно опорные монтажные пункты предвосхищали контекст, который выступал не формообразующим, а подчиненным элементом. В кадре с девочкой будто бы уже содержится контекстное содержание, вытекающее из крупного плана: опорные пункты переиначивают контекстные кадры, наполняют их смыслом, производным от ключевых монтажных фрагментов. Эти опорные кадры есть своего рода «кадры-мотивы», из которых слагается визуальная симфония; контексты не определяются, а исходят из этих ключевых кадров. Именно об этом писал Пелешян: «В… тройном повторе (девочка в начале — девочка в середине— люди на балконе в финале) мы видим основную опору дистанционного монтажа. Но в фильме «Мы» есть и другие опорные элементы, данные в изображении и в звуке. Они появляются один за другим в первой половине фильма. Перечислю их: это вздохи, звучание хора, крупные планы рук, изображение гор.
Потом эти элементы как бы ответвляются, некоторые части изображения и фонограммы смещаются на другие доли, размеры, длительности действия. Частью они перебрасываются в другие эпизоды, сталкиваясь с другими элементами и ситуациями. Но как только кадр девочки возникает вторично, все эти разъединенные элементы вновь перегруппировываются и, как бы получив новое задание, проходят в другой последовательности, в измененной форме, для выполнения новых функций".
Пелешян, придерживаясь контекста своей монтажной теории, осмысливает и развивает первичные представления о частных сегментах киноязыка, среди которых важной остается музыка. «Я не представляю себе своих фильмов без музыки. Когда я пишу сценарий, то с самого начала должен предугадать музыкальный строй фильма, музыкальные акценты, эмоциональный и ритмический характер той музыки, которая нужна для каждого куска. Для меня музыка не дополнение к изображению. Для меня она — прежде всего музыка идеи, выражающая в единстве с изображением смысл образа. Для меня она также музыка формы. Я хочу сказать, что форма музыкального звучания в каждый момент зависит от формы целого, от его композиции, от его длительности», — пишет режиссер.
Однако гонимая Вертовым «музыкальная аналогия» под пелешяновским пером испытывает существенные метаморфозы, цель которых — выразительно подчеркнуть самостоятельность киноискусства и его законов. Законов, подчиняющих на правах диктата иные виды искусства. Он убежден, что «метод дистанционного монтажа основывается не на том „непрерывном взаимодействии между фонограммой и изображением“, как это описывали Вертов и Эйзенштейн, а на непрерывном взаимодействии между „диффузионными“ процессами, где, с одной стороны, изображение разлагается фонограммой, а с другой стороны — фонограмма разлагается изображением». Тем самым происходит углубление эйзенштейновского суждения об асинхронности аудио-визуального монтажа. Пелешян развивает эту идею до наивысшего напряжения, выражающего полноту и единство кинематографических форм. Дистанционный монтаж буквально перемалывает другие искусства на благо кинообраза.
Сверх того! Он также переламывает и сами кинематографические законы. К примеру, Пелешян полагает, что «ошибочен тот взгляд, что крупный план будто бы предназначается для ближайшего рассмотрения той или иной детали. Функции крупного плана шире, он способен нести в себе смысловой акцент, он способен передавать обобщающий образ, который может в итоге вырасти до бесконечной символики». В его понимании крупный план может быть выражен и посредством общего плана: «В системе дистанционных связей не только модулируется смысловое значение тех или иных кадров, но и как бы изменяется и требует поправок привычное обозначение планов („общий“, „средний“, „крупный“). Например, финальный „общий“ план картины „Мы“ — люди, стоящие на балконах большого дома — в силу дистанционных связей приобретает функцию и звучание одного из самых „крупных“ планов фильма».
Из всего вышесказанного становится понятным пелешяновское обоснование кинематографа в качестве высшего из искусств. Он пишет, что, «поскольку при дистанционном монтаже элементы пространственных и временных искусств, хотя и находятся в неустойчивом процессе разложения, но никогда не сливаются, а держатся неизменно на расстоянии… можно заметить, что произведение киноискусства при этом уже не образуется за счет синтеза пространственных и временных искусств как таковых, а образуется за счет тех баз, на которых порознь образуются сами эти искусства, пространственные и временные. Иными словами, кинематограф, основанный на методе дистанционного воздействия, уже не может быть назван синтетическим искусством, так как он уже не „пьет воды“ из литературы, музыки, живописи, а „пьет“ из той среды, откуда „пьют свои воды“ литература, музыка, живопись». Таким образом, теория кино, увенчанная дистанцией Пелешяна, логически закрывает главнейший вопрос киноискусства — вопрос его суверенности, перетекающей в фундамент кинематографа как высшего художества.
Дистанционность, оголяющая первоисточник искусства, — канудовское жизненное впечатление, — с одной стороны, определяет независимость кинематографа как вида искусства вообще, а с другой, прямо связанной с первой, возводит кино в ранг наивысшего искусства. Ибо только экран способен к непосредственному, «чистому», не загрязненному «упрощениями» и «стилизацией» (как писал Канудо) выражению впечатления, рождающегося из жизни.
Интересно, как теория Пелешяна взаимодействует с концепцией художественного образа Тарковского.
Первый, равно как и последний, признавали за символом меньшее художественное значение, более примитивное в сравнении с образом в силу его вполне однозначной и статичной считываемости (чего не терпит тот же дистанционный монтаж). К примеру, армянский режиссер сетовал на то, что в фильме «Мы» «решение темы получилось только символическим, а это гораздо слабее, чем было в материале первого варианта». Образ для Тарковского, как уже было сказано, «целен и герметичен». Он суть определение, форма и содержание самого себя, поскольку обращен ко всем и одновременно ни к кому конкретно.
Пелешян усилием видоизменяет это определение. Пелешяновский кинообраз не только «зациклен» в себе, но также и стремится за свои собственные пределы: его фильмы обыкновенно завершаются под вопросительным знаком, перенося вопрос в последующие картины. Иными словами, образ, который созидается Артаваздом Пелешяном, не столько сокрыт рамками того или иного искусства, но подлинно тяготеет к бесконечности, как об этом писал Тарковский. Он существует и вне отдельно взятого фильма, о чем свидетельствует вольность переброса некоторых кадров в другие, следующие за первыми, работы режиссера. Образ будто бы не конструируется, но вскрывается режиссерской рукой — и это показательно, поскольку Тарковский относился к жизни «нерукотворно», как бы с позиций наблюдателя. Кинообраз в случае с Пелешяном оказывается каплей росы, которая не только отражает жизнь, но и сама является частью жизни. Потому нельзя согласиться с Анелкой Григорян, которая видит в режиссерском подходе акт насилия над материалом: «силы, которая диктует материалу свою волю». Пелешян капитулирует перед истиной, сокрытой в материале. Он «проникает в его нутро» не посредством разрушения, но через любовь к истине, к правде, которую кинотворец ощущает и мыслит через экран.
В этом смысле кинематограф является куда большим, чем просто искусством (его можно назвать разве что абсолютным искусством). Это справедливо хотя бы потому, что — как это было уже сказано — кинообраз, достигаемый пелешяновской рукой, буквально переламывает законы искусств, подвергает деструкции в том числе и киноязык.
Артавазд Пелешян на практике реализовал вертовское побуждение к смерти кинематографии во имя жизни абсолютного киноискусства.
Живая многогранность теории и фильмов армянского режиссера требует отдельного исследования. Однако заявить можно точно, что Пелешян, равно как и Тарковский, несомненный наследник авангардной теоретической традиции: в его суждениях и кинематографических опытах встречается огромное множество ретроспективных по своей природе суждений, воспитанных Канудо и продолженных в конечном счете большим количеством авторов-теоретиков от авангарда (собственно зачинателей кинотеории). Здесь и сущностное канудовское определение кино, и углубленная «музыкальная аналогия» Дюлак, и развитые представления Вертова и Эйзенштейна… Последнее, к слову, подтверждается напрямую самим автором: «Сейчас уже можно говорить о том, что принципы Вертова и Эйзенштейна не только противостояли друг другу, но и согласовывались друг с другом. В обоих случаях речь шла, хотя и по-разному, о системе авторского миропонимания для измерения и оценки снятого материала. А опыт дистанционного монтажа в фильмах «Начало» и «Мы» показывает, в свою очередь, что задача идейной и смысловой организации и трактовки исходного материала (первичного или вторичного) требует не только «КИНОГЛАЗ» и «КИНОКУЛАК" — системы авторского миропонимания для измерения и оценки снятого материала, но и «КИНОМОГУ»…».
Аристарко в своей «Истории теорий кино» констатировал, что авангард, представленный выше определенными личностями и авторами, умер. Его повторение означало бы лишь уход в интересный «курьез», если не в абсолютную ошибку. Появление Пелешяна, который, как мы видим, теоретически и практически развивает суждение этого самого «мертвого» авангарда — конструктивное доказательство, отражающее неверность аристарковской констатации.
Однако противоречие это только кажущееся. С одной стороны, учение о художественном образе Тарковского онтологически тяготеет к зрительской субъективности. С другой стороны, режиссер повторяет теоретическую конструкцию кракауэровского тезиса о взаимодополняемости творческого начала художника и реальности, которую этот самый художник раскрывает. Жизнь, таким образом, предстает на экране не «неживой» абстрактной материей, а фактом, переживаемым конкретным зрителем; реальность буквально обретает объемность, становясь при участии субъективного прочтения еще более живой, подлинной — реальной!
Жизнь во главе угла; самостоятельность кинематографа, обеспечивающая зрительское право на субъективное восприятие; борьба за собственно кинематографический язык; определение кино в качестве наивысшего искусства — комплексный идейный узел, обусловливающий единство мнений Тарковского и Пелешяна; и больше — обоих теоретиков с авангардными зачинателями кинотеории.
Однако Пелешян, благодаря, несомненно, выдающемуся уму, смог не только теоретически углубить представления Тарковского, но и подтвердить их на практике, снарядив, тем самым, возрождение авангардной интенции.
Продолжая риторику дискредитации других искусств относительно кино, Пелешян пишет, что «…рождение киноискусства не следует рассматривать как синтетическое, механическое или немеханическое слияние разных видов искусств. Не оно рождается от них, а наоборот, они в принципе должны были бы родиться от него — несмотря на то, что известный нам объективный исторический процесс привел к тому, что мы имели, видели и знали «рожденных» раньше, чем «рождающего». Именно кинематограф в его понимании заслуживает качества наивысшего, наизначительнейшего из искусств. Как и теоретики до него, Пелешян концентрирует свое внимание на вопросе монтажа.
Тарковский, выделяя значительность отдельно взятого кадра, отнюдь не отрицал важности монтажного построения. Последнее вытекает из программируемой материалом «необходимости», имея, тем самым, способность к фиксации внутреннего «напряжения времени» всей совокупности кадров — именно поэтому оно не менее значимо. Внутренняя динамика кадров, слагаясь, рождает общий внешний ритм фильма, проявить который возможно только через монтаж. Пелешян продолжил вектор этих суждений, развив их в концепцию дистанционного монтажа. Эта монтажная форма предполагает «киносистему или кинометод для измерения системы авторского миропонимания». Формообразующий принцип кинотворчества, согласно монтажной дистанции, заключается в расклеивании (разложении) монтажного куска и последующее перераспределение таких фрагментов на монтажной плоскости. Эти фрагменты, будучи опорными в монтажной линии, связывают действие на экране, углубляя тем самым содержание и смысл происходящего: каждый опорный пункт предвосхищает последующее движение, которое исполняется новым смысловым и идейным значением. Происходит это благодаря модулированию все новых и новых контекстов. Смена контекстов, окаймляющих ключевые монтажные фрагменты с обеих сторон, с одной стороны строго функциональна, т. е. обеспечивает развитие мысли, с другой стороны повторяет природу самой мысли в сознании человека — хаотичной и одновременно последовательно логичной. В этом понимании кинотворчество Пелешяна можно подвести под термин «интенция». Артавазд Пелешян не просто творит, но мыслит посредством кино. Это и есть смысловое содержание «монтажа контекстов», как его называет сам режиссер.
В пределах дистанционного монтажа проявляется развитие балашевского «рефрена», который в случае максимального напряжения, явно выпирающего акцентирования доходит до самоисключения: это уже не просто навязчивое художественное повторение, идейно статичное, но буквальное развитие смыслового напряжения, сокрытого в повторяемом кадре или блоке кадров. Армянский режиссер доводит до максимальной кондиции рассуждения Эйзенштейна о кино как об искусстве мысли, способного передавать идеи, суждения. Способного, наконец, повторять сам мыслительный процесс человека.
Монтаж контекстов Артавазда Пелешяна, по словам доктора филологический наук Юрия Лотмана, является продолжением эффекта Кулешова (выше упоминался Базеном), который экспериментальным путем показал, что именно от контекста зависит значение последующего кадра. Насколько это сравнение справедливо? Кулешов вскрыл закономерность в условиях, решительно отличных от посылок творчества Пелешяна.
Крупный план Ивана Мозжухина не имел под собой никакой эмоциональной ориентации: в трех случаях лицо актера не менялось и не выражало ничего, кроме факта взгляда. Контекст при этом предшествовал кадру с Мозжухиным, и декодирование фрагмента происходило постфактум. Видимое переживание возникало вне крупного плана актера и определялось дальнейшим контекстным планом. В случае с Пелешяном и его маленькой армянкой, являвшейся в фильмы «Начало» (1967) и «Мы» (1969), контекст выступал подчиненным компонентом и как бы предполагался крупным планом девочки. Последовательность кадров выстроена таким образом, что именно опорные монтажные пункты предвосхищали контекст, который выступал не формообразующим, а подчиненным элементом. В кадре с девочкой будто бы уже содержится контекстное содержание, вытекающее из крупного плана: опорные пункты переиначивают контекстные кадры, наполняют их смыслом, производным от ключевых монтажных фрагментов. Эти опорные кадры есть своего рода «кадры-мотивы», из которых слагается визуальная симфония; контексты не определяются, а исходят из этих ключевых кадров. Именно об этом писал Пелешян: «В… тройном повторе (девочка в начале — девочка в середине— люди на балконе в финале) мы видим основную опору дистанционного монтажа. Но в фильме «Мы» есть и другие опорные элементы, данные в изображении и в звуке. Они появляются один за другим в первой половине фильма. Перечислю их: это вздохи, звучание хора, крупные планы рук, изображение гор.
Потом эти элементы как бы ответвляются, некоторые части изображения и фонограммы смещаются на другие доли, размеры, длительности действия. Частью они перебрасываются в другие эпизоды, сталкиваясь с другими элементами и ситуациями. Но как только кадр девочки возникает вторично, все эти разъединенные элементы вновь перегруппировываются и, как бы получив новое задание, проходят в другой последовательности, в измененной форме, для выполнения новых функций".
Пелешян, придерживаясь контекста своей монтажной теории, осмысливает и развивает первичные представления о частных сегментах киноязыка, среди которых важной остается музыка. «Я не представляю себе своих фильмов без музыки. Когда я пишу сценарий, то с самого начала должен предугадать музыкальный строй фильма, музыкальные акценты, эмоциональный и ритмический характер той музыки, которая нужна для каждого куска. Для меня музыка не дополнение к изображению. Для меня она — прежде всего музыка идеи, выражающая в единстве с изображением смысл образа. Для меня она также музыка формы. Я хочу сказать, что форма музыкального звучания в каждый момент зависит от формы целого, от его композиции, от его длительности», — пишет режиссер.
Однако гонимая Вертовым «музыкальная аналогия» под пелешяновским пером испытывает существенные метаморфозы, цель которых — выразительно подчеркнуть самостоятельность киноискусства и его законов. Законов, подчиняющих на правах диктата иные виды искусства. Он убежден, что «метод дистанционного монтажа основывается не на том „непрерывном взаимодействии между фонограммой и изображением“, как это описывали Вертов и Эйзенштейн, а на непрерывном взаимодействии между „диффузионными“ процессами, где, с одной стороны, изображение разлагается фонограммой, а с другой стороны — фонограмма разлагается изображением». Тем самым происходит углубление эйзенштейновского суждения об асинхронности аудио-визуального монтажа. Пелешян развивает эту идею до наивысшего напряжения, выражающего полноту и единство кинематографических форм. Дистанционный монтаж буквально перемалывает другие искусства на благо кинообраза.
Сверх того! Он также переламывает и сами кинематографические законы. К примеру, Пелешян полагает, что «ошибочен тот взгляд, что крупный план будто бы предназначается для ближайшего рассмотрения той или иной детали. Функции крупного плана шире, он способен нести в себе смысловой акцент, он способен передавать обобщающий образ, который может в итоге вырасти до бесконечной символики». В его понимании крупный план может быть выражен и посредством общего плана: «В системе дистанционных связей не только модулируется смысловое значение тех или иных кадров, но и как бы изменяется и требует поправок привычное обозначение планов („общий“, „средний“, „крупный“). Например, финальный „общий“ план картины „Мы“ — люди, стоящие на балконах большого дома — в силу дистанционных связей приобретает функцию и звучание одного из самых „крупных“ планов фильма».
Из всего вышесказанного становится понятным пелешяновское обоснование кинематографа в качестве высшего из искусств. Он пишет, что, «поскольку при дистанционном монтаже элементы пространственных и временных искусств, хотя и находятся в неустойчивом процессе разложения, но никогда не сливаются, а держатся неизменно на расстоянии… можно заметить, что произведение киноискусства при этом уже не образуется за счет синтеза пространственных и временных искусств как таковых, а образуется за счет тех баз, на которых порознь образуются сами эти искусства, пространственные и временные. Иными словами, кинематограф, основанный на методе дистанционного воздействия, уже не может быть назван синтетическим искусством, так как он уже не „пьет воды“ из литературы, музыки, живописи, а „пьет“ из той среды, откуда „пьют свои воды“ литература, музыка, живопись». Таким образом, теория кино, увенчанная дистанцией Пелешяна, логически закрывает главнейший вопрос киноискусства — вопрос его суверенности, перетекающей в фундамент кинематографа как высшего художества.
Дистанционность, оголяющая первоисточник искусства, — канудовское жизненное впечатление, — с одной стороны, определяет независимость кинематографа как вида искусства вообще, а с другой, прямо связанной с первой, возводит кино в ранг наивысшего искусства. Ибо только экран способен к непосредственному, «чистому», не загрязненному «упрощениями» и «стилизацией» (как писал Канудо) выражению впечатления, рождающегося из жизни.
Интересно, как теория Пелешяна взаимодействует с концепцией художественного образа Тарковского.
Первый, равно как и последний, признавали за символом меньшее художественное значение, более примитивное в сравнении с образом в силу его вполне однозначной и статичной считываемости (чего не терпит тот же дистанционный монтаж). К примеру, армянский режиссер сетовал на то, что в фильме «Мы» «решение темы получилось только символическим, а это гораздо слабее, чем было в материале первого варианта». Образ для Тарковского, как уже было сказано, «целен и герметичен». Он суть определение, форма и содержание самого себя, поскольку обращен ко всем и одновременно ни к кому конкретно.
Пелешян усилием видоизменяет это определение. Пелешяновский кинообраз не только «зациклен» в себе, но также и стремится за свои собственные пределы: его фильмы обыкновенно завершаются под вопросительным знаком, перенося вопрос в последующие картины. Иными словами, образ, который созидается Артаваздом Пелешяном, не столько сокрыт рамками того или иного искусства, но подлинно тяготеет к бесконечности, как об этом писал Тарковский. Он существует и вне отдельно взятого фильма, о чем свидетельствует вольность переброса некоторых кадров в другие, следующие за первыми, работы режиссера. Образ будто бы не конструируется, но вскрывается режиссерской рукой — и это показательно, поскольку Тарковский относился к жизни «нерукотворно», как бы с позиций наблюдателя. Кинообраз в случае с Пелешяном оказывается каплей росы, которая не только отражает жизнь, но и сама является частью жизни. Потому нельзя согласиться с Анелкой Григорян, которая видит в режиссерском подходе акт насилия над материалом: «силы, которая диктует материалу свою волю». Пелешян капитулирует перед истиной, сокрытой в материале. Он «проникает в его нутро» не посредством разрушения, но через любовь к истине, к правде, которую кинотворец ощущает и мыслит через экран.
В этом смысле кинематограф является куда большим, чем просто искусством (его можно назвать разве что абсолютным искусством). Это справедливо хотя бы потому, что — как это было уже сказано — кинообраз, достигаемый пелешяновской рукой, буквально переламывает законы искусств, подвергает деструкции в том числе и киноязык.
Артавазд Пелешян на практике реализовал вертовское побуждение к смерти кинематографии во имя жизни абсолютного киноискусства.
Живая многогранность теории и фильмов армянского режиссера требует отдельного исследования. Однако заявить можно точно, что Пелешян, равно как и Тарковский, несомненный наследник авангардной теоретической традиции: в его суждениях и кинематографических опытах встречается огромное множество ретроспективных по своей природе суждений, воспитанных Канудо и продолженных в конечном счете большим количеством авторов-теоретиков от авангарда (собственно зачинателей кинотеории). Здесь и сущностное канудовское определение кино, и углубленная «музыкальная аналогия» Дюлак, и развитые представления Вертова и Эйзенштейна… Последнее, к слову, подтверждается напрямую самим автором: «Сейчас уже можно говорить о том, что принципы Вертова и Эйзенштейна не только противостояли друг другу, но и согласовывались друг с другом. В обоих случаях речь шла, хотя и по-разному, о системе авторского миропонимания для измерения и оценки снятого материала. А опыт дистанционного монтажа в фильмах «Начало» и «Мы» показывает, в свою очередь, что задача идейной и смысловой организации и трактовки исходного материала (первичного или вторичного) требует не только «КИНОГЛАЗ» и «КИНОКУЛАК" — системы авторского миропонимания для измерения и оценки снятого материала, но и «КИНОМОГУ»…».
Аристарко в своей «Истории теорий кино» констатировал, что авангард, представленный выше определенными личностями и авторами, умер. Его повторение означало бы лишь уход в интересный «курьез», если не в абсолютную ошибку. Появление Пелешяна, который, как мы видим, теоретически и практически развивает суждение этого самого «мертвого» авангарда — конструктивное доказательство, отражающее неверность аристарковской констатации.
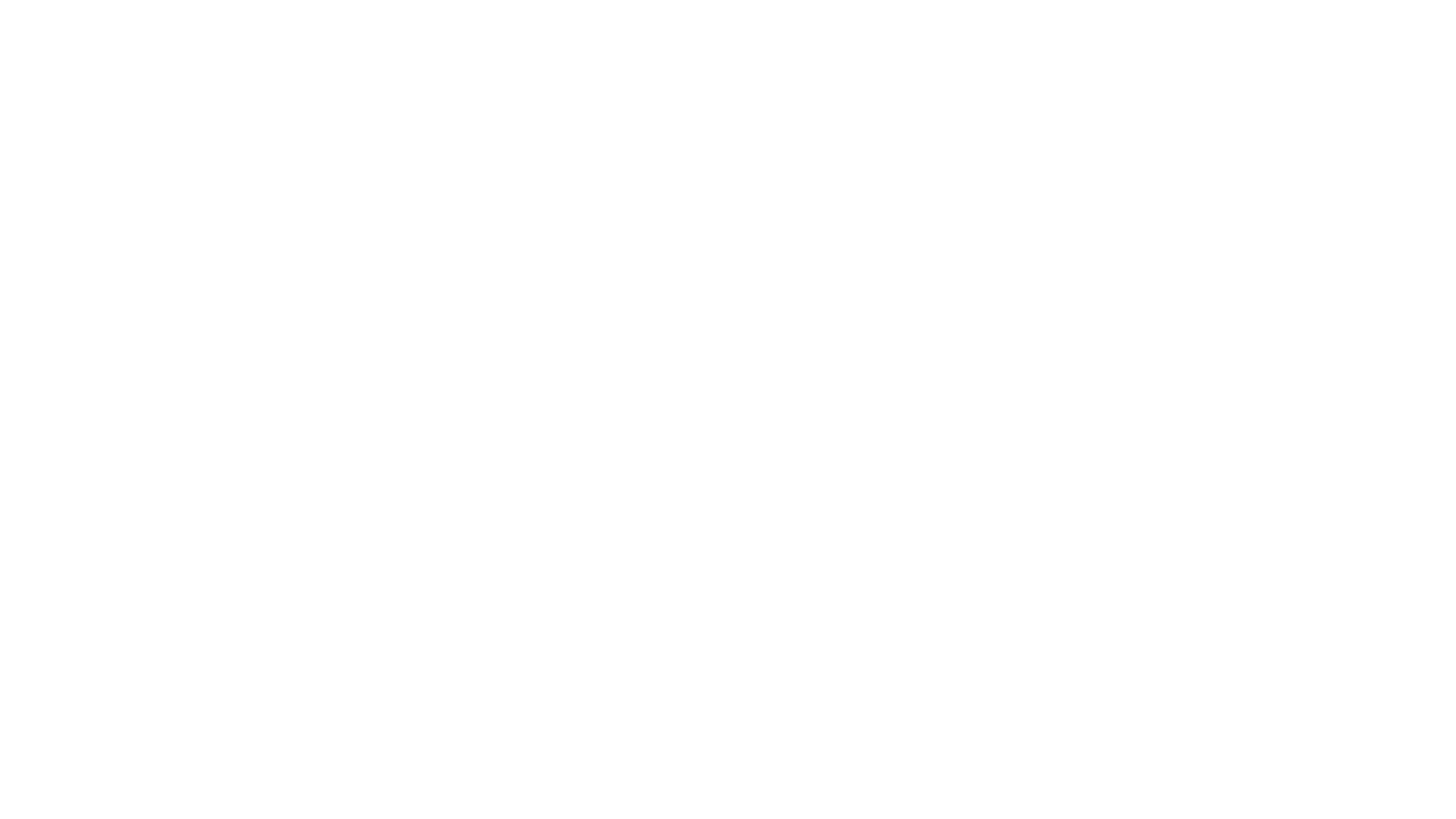
«Лисички» (1941) / реж. Уильям Уайлер
ТЕОРИИ КИНО В ЦЕЛОМ
Авангард — полноправный родитель кинотеории. Именно меньшинство, выступившее против закостенелой массы ревнитель классического спектра искусств, добилось для кинематографа значения самостоятельного художества. Сверх того! То же самое меньшинство, гонимое позже под знаменем борьбы с «формализмом» и «пустым искусством», смогло обосновать кино в качестве наивысшего из искусств. От Канудо и вплоть до Артавазда Пелешяна тянется вереница тезисов, постепенно раскрытых и утвержденных авангардными теоретиками. Не зря Трюффо утверждал, что «никто, кроме специалистов, не достоин уважения, внимания, прочтения, интереса и любви».
Абсолют жизненности; самостоятельное и независимое киноискусство со своими законами и требованиями, побуждающими зрителя к равной самостоятельности; борьба с любыми формами диктата — от других искусств, от идеологии и до авторской дидактики вообще; опровержение «синтетичности», коей иногда бездумно обзывают «самое важное из…»; наконец, движение общего пласта культуры и искусства — вот только малое количество теоретических и практических достижений авангарда, обеспечившего развитие кино. Да и что уж говорить! Авангардные эксперименты обогатили кинематограф, определив дальнейший кинопроцесс.
Авангардизм наиболее качественно аккумулировал кинематографический опыт, направлял и двигал экран к новым свершениям. Не зря Сергей Добротворский писал, что авангардные течения не столько вырабатывают «новое», сколько закрывают «старое». И совсем кстати Владимир Паперный привнес в искусствоведческое пространство определения «Культуры Один» и «Культуры Два», где первое отражает авангард.
Осмыслив новое явление, первые лица теории принялись выстраивать свое представление о киноискусстве. Поразительно, насколько однородным оказывается общий вектор интенции. Через анализ формально-технических аспектов вырабатывалась единая, сущностная онтология кинематографа, меняющая представление об искусстве как таковом.
Везде и всюду говорят авторы о самостоятельности кино, о его свободе; везде и всюду определяют за ним право на наиболее полное выражение самой жизни — во всей ее многообразии и противоречивости. Кино, по их мнению, не только искусство, но и «самое важное из искусств», как выразился Ленин.
Возможно, читателю будет интересно, почему в этом довольно внушительном обозрении, мягко говоря, отсутствуют или просто пропущены теоретические суждения самого Аристарко, чей труд послужил ключевым источником настоящей публикации. Почему, наконец, проигнорированы некоторые высказывания других теоретиков, к примеру, того же советского кино или представителей многообразных «новых волн»?
Здесь есть три причины. Первая — сугубо функциональная. Дело в ограниченности эссе, за рамки которого я уже существенным образом перешагнул. Вторая — факт наследования советскими теоретиками, «новыми волнами» и их лидерами авангардных концепций, кочующих из суждение в суждение. Так, Пудовкин под влиянием Эйзенштейна отказался от принципов «априорного монтажа» и «железного сценария», которые навязывали кинематографу онтологически чуждые ему рамки. А Артавазда Пелешян своим монтажным мышлением существенным образом повлиял на некоторых представителей французской новой волны.
Третья причина касается самого Аристарко и приведенных им авторов в положительном ключе — поборников эстетики Кроче, уравнивающей в единую массу все искусства. Достаточно привести одно суждение, высказанное применительно к фильму «Гамлет» (1948) Лоуренса Оливье: «…нам кажется еще абсурднее критерий, согласно которому степени художественности киноленты устанавливается в непосредственной зависимости от ее кинематографических достоинств. Нам кажется нелепым ссылаться на эти достоинства как на условия не только необходимые, но даже достаточные для того, чтобы считать какой-нибудь фильм хорошим…».
Критик и «теоретик» кино буквально отказывается от художественно-кинематографических критериев анализа того или иного фильма. Кинематографист отказывается от кинематографа — и этим все сказано.
О какой в таком случае самостоятельной теории кино может идти речь? О какой суверенной теоретической концепции можно говорить, если автор откровенно от этого искусства отказывается, вводя в приоритет «социологически-идейный анализ содержания» — очередную отвлеченную призму, искусства прямо не касающуюся?
Однако дилемма «перевода» и «вольности» художника у Аристарко все же способна вызвать интерес. При первом рассмотрении читатель прямо сталкивается с косностью теоретического анализа: в одном исследовании фильма «теоретик» отмечает важность верного отражения в экранизации авторского замысла; в другом пишет о том, что «нельзя создавать новое произведение без критического отношения к старому опыту, без преодоления его». Где-то ссылается на излюбленного Кроче, а где-то восторгается художественной вольностью Висконти в фильме «Земля дрожит». Иными словами, единой идейной линии нет (окромя, разумеется, марксистского подхода, коим Аристарко пользуется вдоволь). Из проблем аристарковского исследования можно также выделить упорное нежелание видеть за наработкой новых форм киноязыка развитие именно кинематографического искусства. Так, например, исследуя фильм все того же Оливье, Аристарко пишет, что благодаря активному использованию режиссером плана-эпизода, происходит, дескать, «слияние двух техник — театральной и кинематографической». Сценические ограничения, по его мнению, таковыми не являются. Справедливо ли это? Нет! Еще Базен писал о реалистической направленности безмонтажного кино. Направленности, которая монтаж аккумулирует в изобразительном решении кадра. Условность театральной сцены, отгороженной от зрителя, не может идти ни в какое сравнение с кинематографичностью максимально приближенного к человеческому взгляду плана-эпизода — нового «слова» киноязыка. И если все-таки можно увидеть в этом «слове» наметки театральности, то лишь в качестве явления, подчиненного экранной образности, деформирующей и изменяющей сущность сценической условности в нужном киноязыку ключе.
Косность поставленной Аристарко дилеммы разрешается суждением Базена (с ним итальянский кинематографист находился в эпистолярном диспуте), который в «переводе» видит интертекстуальную природу. Теоретик писал, что предметом фотографии всегда выступает объект реальности. Этим объектом вполне может быть произведение искусства. А поскольку «кино предстает перед нами как завершение фотографической объективности во временном измерении», то и оно способно брать в объектив разнородные художественные произведения; и, при этом, демонстрировать «их существования во времени», влияние «происходящих с ними перемен».
Иными словами, кино, будучи абсолютным искусством, способно передать на экране свою исследовательскую интерпретацию различных художественных форм. Так, например, обосновывая эволюцию «кинематографического театра», Базен пишет: «Намеченное… верное решение заключается в понимании того, что задача состоит в переносе на экран не драматического элемента театрального произведения, — который может в порядке взаимозаменяемости переходить из одного вида искусства в другое, — а, наоборот, в переносе театральности драмы. Предметом переработки является не сюжет пьесы, а сама пьеса в ее сценической специфике». Значит, кино в силах исследовать язык других искусств и авторов, их творящих. И не только исследовать, но и перерабатывать! Ясно, что на экране театральное представление не равнозначно тому, что видит зритель, сидящий в партере (также, как и фотография какой-нибудь живописной картины не равна этой самой картине).
Именно поэтому Базен положительно отзывается о фильме Уайлера «Лисички» (1941), который, по словам критика, хотя бы и употребляет присущие пьесе Лилиан Хеллман сценические установки, тем не менее относится к числу «наиболее ярко выраженных, чисто кинематографических произведений». Оценка критика уайлеровского фильма, выстроенного посредством плана-эпизода и статичной камеры, проливает свет на кинематографическую природу безмонтажности, отсекая сомнительные высказывания Аристарко.
И именно в этом — и только в этом — ключе возможно признать правоту Кроче относительно «перевода», который может стать «вариантом», представить «новое художественное произведение». Интертекст превращает кино в своего рода исследовательский инструмент, в хирургический скальпель, выворачивающий внутренность того или иного произведения.
Тем самым в очередной раз логическая цепочка сводится к подтверждению кинематографа в качестве абсолютного искусства, стоящего над другими формами творчества.
Если Базен разрешает в пользу кинематографа дилемму «перевода», вводя (но не озвучивая) явление интертекстуальности, то Аристарко в своей косности оказывается на пороге безапелляционного отрицания киноискусства.
Впрочем, не о нем речь в этой статье.
Абсолют жизненности; самостоятельное и независимое киноискусство со своими законами и требованиями, побуждающими зрителя к равной самостоятельности; борьба с любыми формами диктата — от других искусств, от идеологии и до авторской дидактики вообще; опровержение «синтетичности», коей иногда бездумно обзывают «самое важное из…»; наконец, движение общего пласта культуры и искусства — вот только малое количество теоретических и практических достижений авангарда, обеспечившего развитие кино. Да и что уж говорить! Авангардные эксперименты обогатили кинематограф, определив дальнейший кинопроцесс.
Авангардизм наиболее качественно аккумулировал кинематографический опыт, направлял и двигал экран к новым свершениям. Не зря Сергей Добротворский писал, что авангардные течения не столько вырабатывают «новое», сколько закрывают «старое». И совсем кстати Владимир Паперный привнес в искусствоведческое пространство определения «Культуры Один» и «Культуры Два», где первое отражает авангард.
Осмыслив новое явление, первые лица теории принялись выстраивать свое представление о киноискусстве. Поразительно, насколько однородным оказывается общий вектор интенции. Через анализ формально-технических аспектов вырабатывалась единая, сущностная онтология кинематографа, меняющая представление об искусстве как таковом.
Везде и всюду говорят авторы о самостоятельности кино, о его свободе; везде и всюду определяют за ним право на наиболее полное выражение самой жизни — во всей ее многообразии и противоречивости. Кино, по их мнению, не только искусство, но и «самое важное из искусств», как выразился Ленин.
Возможно, читателю будет интересно, почему в этом довольно внушительном обозрении, мягко говоря, отсутствуют или просто пропущены теоретические суждения самого Аристарко, чей труд послужил ключевым источником настоящей публикации. Почему, наконец, проигнорированы некоторые высказывания других теоретиков, к примеру, того же советского кино или представителей многообразных «новых волн»?
Здесь есть три причины. Первая — сугубо функциональная. Дело в ограниченности эссе, за рамки которого я уже существенным образом перешагнул. Вторая — факт наследования советскими теоретиками, «новыми волнами» и их лидерами авангардных концепций, кочующих из суждение в суждение. Так, Пудовкин под влиянием Эйзенштейна отказался от принципов «априорного монтажа» и «железного сценария», которые навязывали кинематографу онтологически чуждые ему рамки. А Артавазда Пелешян своим монтажным мышлением существенным образом повлиял на некоторых представителей французской новой волны.
Третья причина касается самого Аристарко и приведенных им авторов в положительном ключе — поборников эстетики Кроче, уравнивающей в единую массу все искусства. Достаточно привести одно суждение, высказанное применительно к фильму «Гамлет» (1948) Лоуренса Оливье: «…нам кажется еще абсурднее критерий, согласно которому степени художественности киноленты устанавливается в непосредственной зависимости от ее кинематографических достоинств. Нам кажется нелепым ссылаться на эти достоинства как на условия не только необходимые, но даже достаточные для того, чтобы считать какой-нибудь фильм хорошим…».
Критик и «теоретик» кино буквально отказывается от художественно-кинематографических критериев анализа того или иного фильма. Кинематографист отказывается от кинематографа — и этим все сказано.
О какой в таком случае самостоятельной теории кино может идти речь? О какой суверенной теоретической концепции можно говорить, если автор откровенно от этого искусства отказывается, вводя в приоритет «социологически-идейный анализ содержания» — очередную отвлеченную призму, искусства прямо не касающуюся?
Однако дилемма «перевода» и «вольности» художника у Аристарко все же способна вызвать интерес. При первом рассмотрении читатель прямо сталкивается с косностью теоретического анализа: в одном исследовании фильма «теоретик» отмечает важность верного отражения в экранизации авторского замысла; в другом пишет о том, что «нельзя создавать новое произведение без критического отношения к старому опыту, без преодоления его». Где-то ссылается на излюбленного Кроче, а где-то восторгается художественной вольностью Висконти в фильме «Земля дрожит». Иными словами, единой идейной линии нет (окромя, разумеется, марксистского подхода, коим Аристарко пользуется вдоволь). Из проблем аристарковского исследования можно также выделить упорное нежелание видеть за наработкой новых форм киноязыка развитие именно кинематографического искусства. Так, например, исследуя фильм все того же Оливье, Аристарко пишет, что благодаря активному использованию режиссером плана-эпизода, происходит, дескать, «слияние двух техник — театральной и кинематографической». Сценические ограничения, по его мнению, таковыми не являются. Справедливо ли это? Нет! Еще Базен писал о реалистической направленности безмонтажного кино. Направленности, которая монтаж аккумулирует в изобразительном решении кадра. Условность театральной сцены, отгороженной от зрителя, не может идти ни в какое сравнение с кинематографичностью максимально приближенного к человеческому взгляду плана-эпизода — нового «слова» киноязыка. И если все-таки можно увидеть в этом «слове» наметки театральности, то лишь в качестве явления, подчиненного экранной образности, деформирующей и изменяющей сущность сценической условности в нужном киноязыку ключе.
Косность поставленной Аристарко дилеммы разрешается суждением Базена (с ним итальянский кинематографист находился в эпистолярном диспуте), который в «переводе» видит интертекстуальную природу. Теоретик писал, что предметом фотографии всегда выступает объект реальности. Этим объектом вполне может быть произведение искусства. А поскольку «кино предстает перед нами как завершение фотографической объективности во временном измерении», то и оно способно брать в объектив разнородные художественные произведения; и, при этом, демонстрировать «их существования во времени», влияние «происходящих с ними перемен».
Иными словами, кино, будучи абсолютным искусством, способно передать на экране свою исследовательскую интерпретацию различных художественных форм. Так, например, обосновывая эволюцию «кинематографического театра», Базен пишет: «Намеченное… верное решение заключается в понимании того, что задача состоит в переносе на экран не драматического элемента театрального произведения, — который может в порядке взаимозаменяемости переходить из одного вида искусства в другое, — а, наоборот, в переносе театральности драмы. Предметом переработки является не сюжет пьесы, а сама пьеса в ее сценической специфике». Значит, кино в силах исследовать язык других искусств и авторов, их творящих. И не только исследовать, но и перерабатывать! Ясно, что на экране театральное представление не равнозначно тому, что видит зритель, сидящий в партере (также, как и фотография какой-нибудь живописной картины не равна этой самой картине).
Именно поэтому Базен положительно отзывается о фильме Уайлера «Лисички» (1941), который, по словам критика, хотя бы и употребляет присущие пьесе Лилиан Хеллман сценические установки, тем не менее относится к числу «наиболее ярко выраженных, чисто кинематографических произведений». Оценка критика уайлеровского фильма, выстроенного посредством плана-эпизода и статичной камеры, проливает свет на кинематографическую природу безмонтажности, отсекая сомнительные высказывания Аристарко.
И именно в этом — и только в этом — ключе возможно признать правоту Кроче относительно «перевода», который может стать «вариантом», представить «новое художественное произведение». Интертекст превращает кино в своего рода исследовательский инструмент, в хирургический скальпель, выворачивающий внутренность того или иного произведения.
Тем самым в очередной раз логическая цепочка сводится к подтверждению кинематографа в качестве абсолютного искусства, стоящего над другими формами творчества.
Если Базен разрешает в пользу кинематографа дилемму «перевода», вводя (но не озвучивая) явление интертекстуальности, то Аристарко в своей косности оказывается на пороге безапелляционного отрицания киноискусства.
Впрочем, не о нем речь в этой статье.
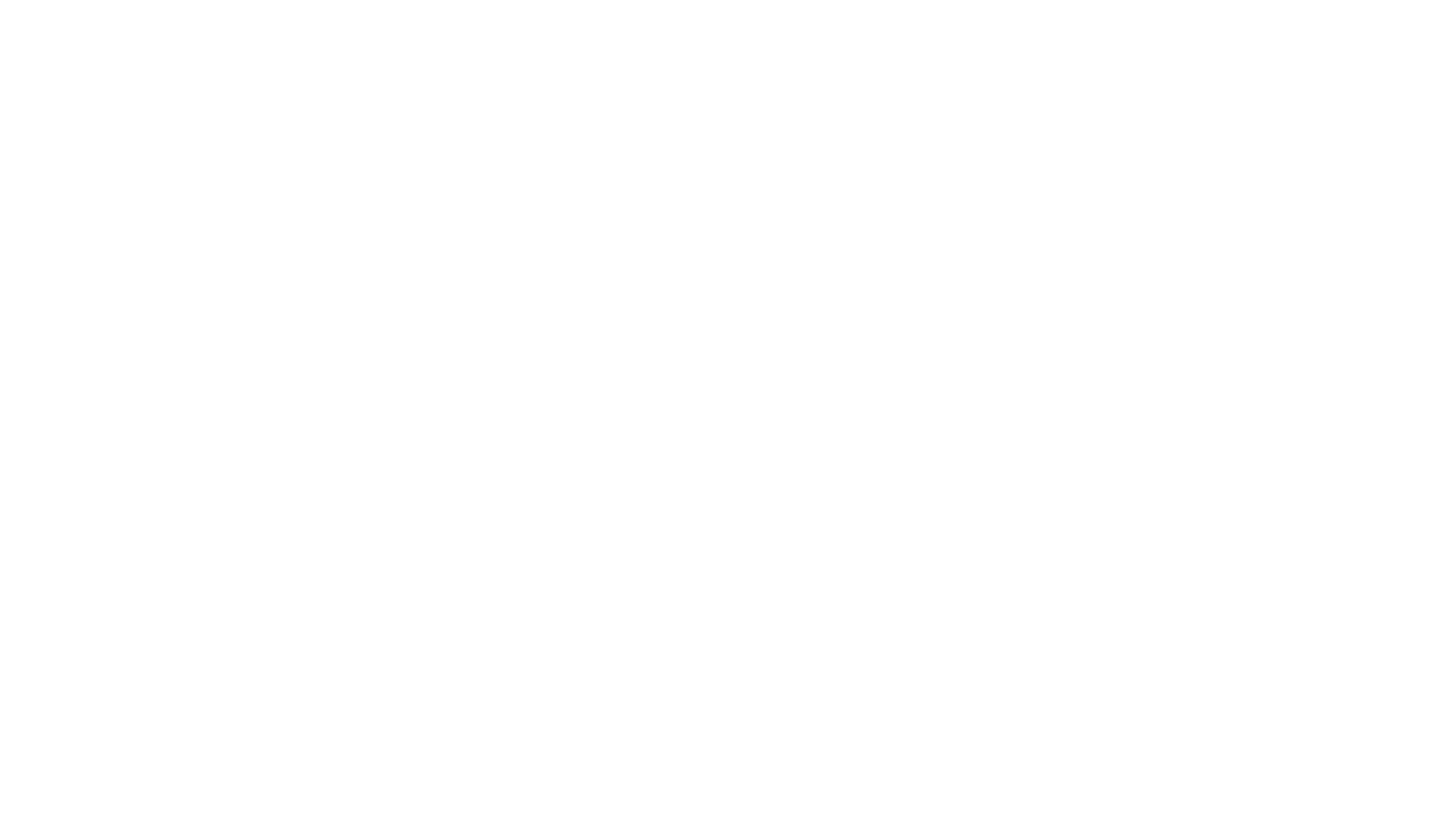
«Сталкер» (1979) / реж. Андрей Тарковский
Из итальянских теоретиков в укор Аристарко важно отметить Луиджи Кьярини, сторонника «чисто эстетического» киноискусства. Именно его концепция единства эстетического и этического начал нашла отклик в трудах Тарковского, который вслед за итальянцем считал, что «искусство реалистично лишь тогда, когда оно стремится выразить нравственный идеал. Реализм — это стремление к истине, а истина всегда прекрасна. В этом смысле эстетическая категория соразмерна этической». Кьярини привнес в теорию кино значительную конкретизацию идейных предпосылок Канудо. Так, итальянский теоретик осмысливает проблему чувства, которое «лежит в основе самой жизни». Именно об этом писал Риччото Канудо, обнаруживший в кино возможность возвращения «изображение жизни к источникам всех эмоций». Однако Кьярини идет дальше, усматривая в чувстве изначальную субъективность, «без каковой он даже не допускает возможности существования объективности». Последний тезис явно отсылает к Тарковскому, воспринимающего объективную реальность через призму субъективного мироощущения (авторского и зрительского).
Есть ли место в пределах столь продуктивной, животворящей теоретической мысли выводам Аристарко и ему подобных? Не думаю.
Незачем искать самостоятельную концепцию киноискусства у авторов, не видящих в кино никакого искусства — и уж тем более самостоятельного. Сергей Добротворский писал, что авангард суть специфическая зона, «где разыгрывается последняя схватка за суверенитет искусства в постоянно разрастающемся и бесконечно самовоспроизводимом теле культуры». Точно также все искусства, по Базену, обретали в борьбе самое себя (в том числе благодаря явлению «движущейся фотографии»).
Поборники синтеза, «единства искусств», политико-идеологической (и какой бы то ни было вообще) призмы художественного восприятия не могут родить адекватной системы кинематографического творчества — теоретического или практического. Создавая путаницу суждений, такие «теоретики» скорее обесценят искусство как таковое, нежели обеспечат каждый вид творчества самобытной и динамичной концепцией. Что, собственно, они и делают, сводя искусство к чему угодно, но не к нему самому.
Трудно найти в темной комнате черную кошку, особенно, если ее там нет!
Есть ли место в пределах столь продуктивной, животворящей теоретической мысли выводам Аристарко и ему подобных? Не думаю.
Незачем искать самостоятельную концепцию киноискусства у авторов, не видящих в кино никакого искусства — и уж тем более самостоятельного. Сергей Добротворский писал, что авангард суть специфическая зона, «где разыгрывается последняя схватка за суверенитет искусства в постоянно разрастающемся и бесконечно самовоспроизводимом теле культуры». Точно также все искусства, по Базену, обретали в борьбе самое себя (в том числе благодаря явлению «движущейся фотографии»).
Поборники синтеза, «единства искусств», политико-идеологической (и какой бы то ни было вообще) призмы художественного восприятия не могут родить адекватной системы кинематографического творчества — теоретического или практического. Создавая путаницу суждений, такие «теоретики» скорее обесценят искусство как таковое, нежели обеспечат каждый вид творчества самобытной и динамичной концепцией. Что, собственно, они и делают, сводя искусство к чему угодно, но не к нему самому.
Трудно найти в темной комнате черную кошку, особенно, если ее там нет!
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.