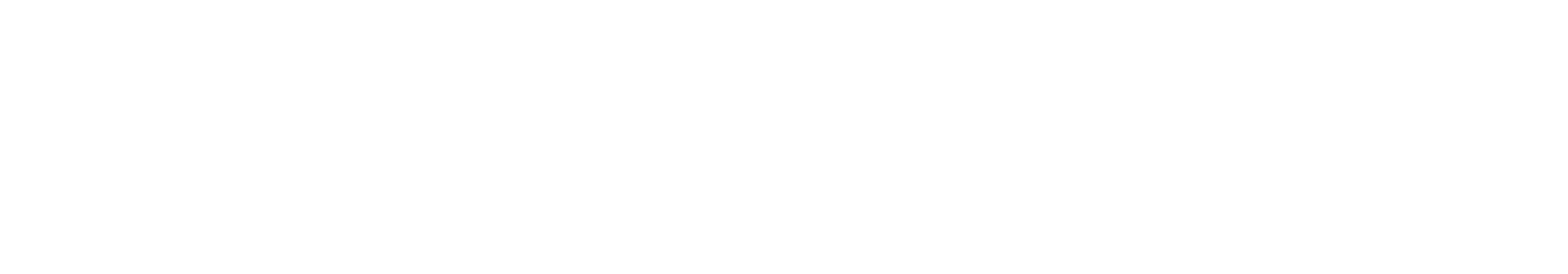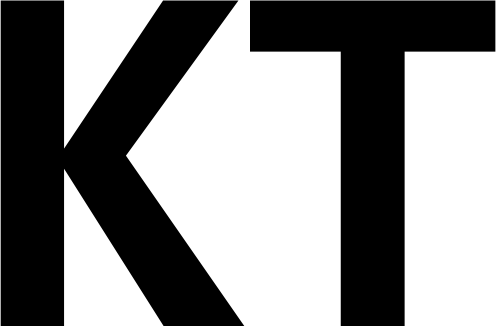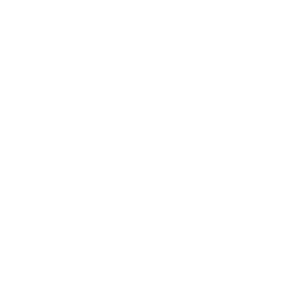ДМИТРИЙ ХауПЕЛЛИН | 30 АВГУСТА 2022
ВЕЛИКОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ: ДОФЛАЭРТИАНСКИЙ ГУМАНИЗМ ГЕРБЕРТА ПОНТИНГА
Путешествие к Южному полюсу, сыгравшее важную роль в становлении документально-хроникального кинематографа
ВЕЛИКОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ: ДОФЛАЭРТИАНСКИЙ ГУМАНИЗМ ГЕРБЕРТА ПОНТИНГА
ДМИТРИЙ ХАУПЕЛЛИН | 30.08.2022
Путешествие к Южному полюсу, сыгравшее важную роль в становлении документально-хроникального кинематографа
ВЕЛИКОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ: ДОФЛАЭРТИАНСКИЙ ГУМАНИЗМ ГЕРБЕРТА ПОНТИНГА
ДМИТРИЙ ХАУПЕЛЛИН | 30.08.2022
Путешествие к Южному полюсу, сыгравшее важную роль в становлении документально-хроникального кинематографа
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Кино — это динамика жизни и природы во всех ее проявлениях, это толпа и ее волнения. Все, в чем есть движение, относится к кино. Его объектив открыт на мир.
Феликс Месгиш / «Крутя ручку»
Кино началось с документа, с сугубо человеческой потребности в познании и фиксации жизненного движения. Иначе говоря, в своей исходной, неоспоримо документальной природе кинематограф содержит два определяющих его сущность качества: жизненность и человечность. Мы неизбежно корректируем вынесенные в эпиграф смыслы люмьеровского оператора, убежденного в том, что «для изучения человеческого сердца достаточно романа и театра» [1], то есть форм рукотворных, искусственных.
Жизненное качество кинематографа следует понимать в смысле источника и одновременно ресурса — материала, составляющего кинотворческий процесс. Это сама жизнь, пульсирующая перед объективом и впечатляющая человека с киноаппаратом. Именно жизнь, а не ее иллюзия, как некоторые критики и теоретики — столь же недальновидные, как и Месгиш — опрометчиво заявляют, оправдывая превосходство игровой формы экрана. Ибо иллюзия — это образ без прообраза, то есть репрезентация объекта без самого объекта, без его исходного наличия — мистический симулякр. В кино же каждый кадр — регистрация конкретного явления на пленке или цифровом носителе, визуальная демонстрация его схваченного образа, то есть эйдос. Не будь этих явления или объекта, не было бы и кадра.
Человеческое качество суть сам человек. Необходимое конструктивное условие и направленность экранного творчества, адекватные отнюдь не только для «романа и театра» или игрового кинематографа. Без жизни, без ее движения невозможно кино как таковое — «движущаяся фотография», оперирующая образами динамической реальности. Без человека фильм, с одной стороны, никогда не будет снят, а с другой — никем не будет увиден. Это дуальное положение киноестества в высшей степени соответствует именно документу, воплощающему чистоту экранного искусства.
Подлинное (документальное) кино можно определить как кинофицированное гуманистическое созерцание, имеющее два взаимосвязанных уровня проявления. Во-первых, это человеческий взгляд на самоигральную, своевольную жизнь (пусть даже и через бездушный объектив). Кино в этом случае эквивалентно окну, в котором разворачивается видимая неподконтрольная действительность, подчиняющая кинонаблюдателя. Во-вторых, это взгляд на самого человека, исполненный жизненной непосредственностью. Здесь экран трансформируется в зеркало, в котором каждый конкретный зритель (им также становится, «умирая» [2], режиссер-автор) видит себя — свои естественные чувства и живые мысли.
Эти уровни в сопряжении создают единое тело документального кино, которое является сразу и окном, и зеркалом. Вне человеческого элемента жизнь на экране обращается сухим механическим потоком фактов, составляющих дегуманизированное зрелище — в нем нет места зрительской субъективности, нет места человеку. В свою очередь там, где гиперболизируется человеческая творящая активность, где она вычленяется, становясь над движением реальности и заполняя экранное пространство до пределов, нет смысла говорить о непосредственной, «живой» жизни.
В последнем случае перед зрителем предстает безжизненная абстракция, вполне определенный спекулятивный символ, демонстрирующий умозрительное понимание автором действительности, но не саму действительность. Это правдоподобие, а не правда, заковывающее зрителя в положении пассивного смыслоприемника и тем самым исключающее какую бы то ни было человечность.
Идеальную модель документального фильма, способного быть и окном, и зеркалом, осуществить, несомненно, трудно, если не невозможно. Потому следует говорить лишь о мере приближения к ней (и неважно, с какой стороны, с какого уровня). Именно на этом приближении мы встречаем документалиста-любителя и фотографа-профессионала Герберта Понтинга — предшественника экранного гуманиста Роберта Флаэрти.
Жизненное качество кинематографа следует понимать в смысле источника и одновременно ресурса — материала, составляющего кинотворческий процесс. Это сама жизнь, пульсирующая перед объективом и впечатляющая человека с киноаппаратом. Именно жизнь, а не ее иллюзия, как некоторые критики и теоретики — столь же недальновидные, как и Месгиш — опрометчиво заявляют, оправдывая превосходство игровой формы экрана. Ибо иллюзия — это образ без прообраза, то есть репрезентация объекта без самого объекта, без его исходного наличия — мистический симулякр. В кино же каждый кадр — регистрация конкретного явления на пленке или цифровом носителе, визуальная демонстрация его схваченного образа, то есть эйдос. Не будь этих явления или объекта, не было бы и кадра.
Человеческое качество суть сам человек. Необходимое конструктивное условие и направленность экранного творчества, адекватные отнюдь не только для «романа и театра» или игрового кинематографа. Без жизни, без ее движения невозможно кино как таковое — «движущаяся фотография», оперирующая образами динамической реальности. Без человека фильм, с одной стороны, никогда не будет снят, а с другой — никем не будет увиден. Это дуальное положение киноестества в высшей степени соответствует именно документу, воплощающему чистоту экранного искусства.
Подлинное (документальное) кино можно определить как кинофицированное гуманистическое созерцание, имеющее два взаимосвязанных уровня проявления. Во-первых, это человеческий взгляд на самоигральную, своевольную жизнь (пусть даже и через бездушный объектив). Кино в этом случае эквивалентно окну, в котором разворачивается видимая неподконтрольная действительность, подчиняющая кинонаблюдателя. Во-вторых, это взгляд на самого человека, исполненный жизненной непосредственностью. Здесь экран трансформируется в зеркало, в котором каждый конкретный зритель (им также становится, «умирая» [2], режиссер-автор) видит себя — свои естественные чувства и живые мысли.
Эти уровни в сопряжении создают единое тело документального кино, которое является сразу и окном, и зеркалом. Вне человеческого элемента жизнь на экране обращается сухим механическим потоком фактов, составляющих дегуманизированное зрелище — в нем нет места зрительской субъективности, нет места человеку. В свою очередь там, где гиперболизируется человеческая творящая активность, где она вычленяется, становясь над движением реальности и заполняя экранное пространство до пределов, нет смысла говорить о непосредственной, «живой» жизни.
В последнем случае перед зрителем предстает безжизненная абстракция, вполне определенный спекулятивный символ, демонстрирующий умозрительное понимание автором действительности, но не саму действительность. Это правдоподобие, а не правда, заковывающее зрителя в положении пассивного смыслоприемника и тем самым исключающее какую бы то ни было человечность.
Идеальную модель документального фильма, способного быть и окном, и зеркалом, осуществить, несомненно, трудно, если не невозможно. Потому следует говорить лишь о мере приближения к ней (и неважно, с какой стороны, с какого уровня). Именно на этом приближении мы встречаем документалиста-любителя и фотографа-профессионала Герберта Понтинга — предшественника экранного гуманиста Роберта Флаэрти.
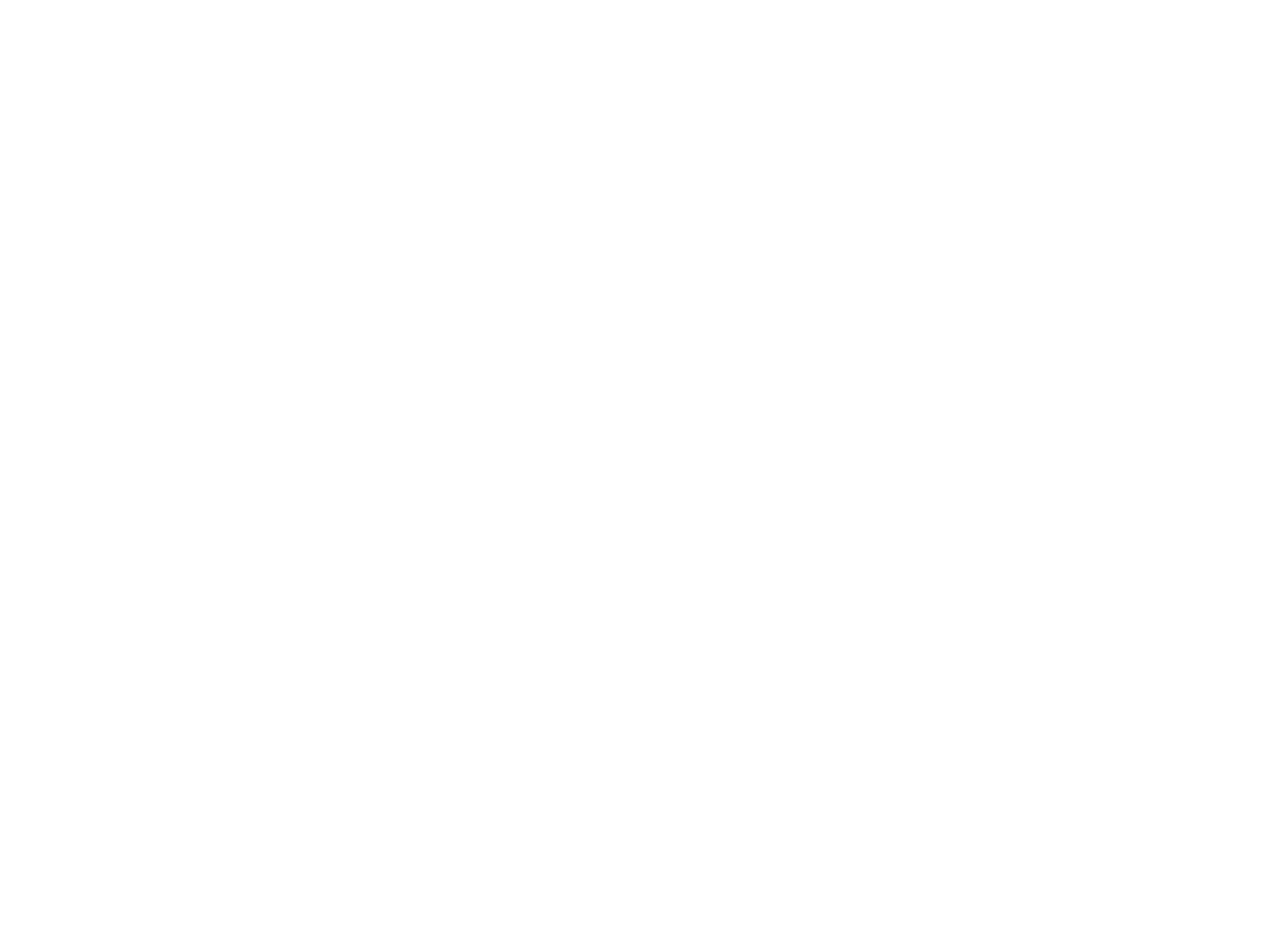
«ВЕЧНОЕ МОЛЧАНИЕ»: МНОГОЛИКИЙ ОРКЕСТР ЖИЗНИ
Кино началось с исследовательского упорства, с желания запечатлеть жизнь и удовлетворить безграничное стремление человека к ее пониманию. Воплощением этого в высшей степени человеческого качества выступил документальный фильм «Вечное молчание» 1914-го Герберта Понтинга (или «Великое белое безмолвие» в версии 1924 года), переизданный в 2011 году. Этот фильм — комплексная киноконструкция, раскрывающая подвиг человека-исследователя, дух познания многоликой, своевольной и на деле неизвестной жизни на материале экспедиции капитана Роберта Скотта, отправившегося в Антарктику, к Южному полюсу, и погибшего там вместе с исследовательской группой.
Лента Понтинга, создававшаяся на всем протяжении экспедиции «Терра Нова» с 1911 по 1913 годы, вобрала в себя чрезвычайное напряжение воли полярников и сверхчеловеческие трудности, требующие, конечно, особого человеческого подхода: как при осуществлении задач экспедиции, так и при съемке и монтажной организации самого фильма. Забегая вперед, подчеркнем, что «Вечное молчание» стало крупным кинематографическим событием, в значительной мере определившим сложение эпического киноархетипа Флаэрти, и, соответственно, развитие документального кино. Как пишет киновед Галина Прожико (на которую ввиду ограниченного количества релевантных материалов мы будем часто ссылаться): «Динамичное киноповествование и выразительная образность статики фотографий создали особенный художественный эффект, который выделил картину из ряда экспедиционных лент не только того времени, но и последующих десятилетий» [3].
И пусть въедливого читателя не смущает дата демонстрации фильма, которая фигурирует в переиздании 2011 года и доказывает, казалось бы, двухлетнее отставание от «Нанука с Севера» Флаэрти. Первая его часть (1000 метров пленки), составленная из кадров отплытия из Новой Зеландии и устройства зимовки на Земле Виктории, была готова уже в 1911 году. Показ вызвал «большой интерес» [4] у зрителя. Повторная же демонстрация в 1924 году, вероятно, была оправдана успехом «Нанука», спровоцировавшим рост интереса к документальному кино.
Предпринятое Понтингом путешествие на Южный полюс, в пространство экстраординарное, отличное от привычной действительности обжитых человеком континентов, создало почти фантастическую дикованность отснятого материала. Неизведанность ледяных просторов составила творческую свободу документалиста, определила его конструктивную вольность, могущую приладиться к самобытной динамике любого запечатленного объективом события этого холодного «края Земли». Отсюда многообразие документального материала и в результате комплексная неоднородность его конечного монтажного сложения. «В отличие от других хроникеров, ограничившихся лишь информационным киносообщением о факте экспедиций в Арктику или Антарктику, Понтинг создал точный дневник экспедиции, наполненный не только драматическим напряжением сюжета, но и множеством выразительных образных деталей, доступных человеку не случайному, прожившему много дней рядом с этими людьми и этой природой» [5], — отмечает Прожико. Простая, на первый взгляд, задача хроникальной фиксации хода экспедиции разрешается Понтингом в усложненной форме жанровой полифонии, внутри которой, несмотря на неразрывную контекстную связь, виднеются окромя событийной экзотической хроники сегменты иных, вполне самостоятельных протожанровых образований.
Так, визуальным лейтмотивом выступает именно дневниковая форма, составленная из хаотичных, но органично объединенных кино- и фотовпечатлений — наблюдений за статичной динамикой или динамической, скульптурной статикой «белого безмолвия», самой своей уникальностью исключающей какую бы то ни было априорность взгляда. Это справедливо даже при условии длительной жизни в запечатлеваемом камерой месте, которое, как правило, притупляет остроту зрения.
Образы разбивающего лед носа корабля «Терра Нова», замерзшей воды в форме «блинчиков», тянущегося холодного тумана, фантастических пещер и эпических снежных скал, схваченные «каким-то чутьем» [6], — как отзывался о рабочем процессе документалиста капитан Скотт, — составляют ведущую, наиболее выразительную линию видимого на экране. Из-за значимости этого жанрового элемента о нем следует рассказать подробнее. Кракауэр полагал [7], что фотограф (коим и является Понтинг) проявляет свою индивидуальность в подчинении, растворении ее в окружающей действительности, а не в самостоятельных рукотворных произведениях. Иначе говоря, творческий процесс фотографа можно определить как инстинктивный, надсознательный, интуитивный поиск жизненных впечатлений. Поскольку кино неизбежно несет в себе фотографическое качество, это определение объясняет также и фотогеническую сущность понтинговского фильма.
Его метод действительно заключается в «максимальном проникновении в предмет», ибо «красота… выявляется фотографией, а не создается заново» [8], как определял фотогению Деллюк, и чем собственно является рефлекторное зрительное впечатление, перенесенное в рамки кадра. Чистота и выразительность схваченного впечатления подтверждается вертовскими усилиями, которые предпринимал Понтинг в процессе съемок, прилаживая собственное зрение к тому или иному явлению. То он выстроит отвесные дощечки с мачты, дабы запечатлеть нос корабля, то будет терпеть муки холода, фиксируя отправление небольших экспедиционных групп к центру полюса… Отсюда фантастический экстерьер непосредственно запечатленных образов, поражающих сознание зрителя своей сказочной экстравагантностью. Этот экстерьер подчеркнут универсальным тонированием кадров различными оттенками, усиливающими темпоритм, эмоционально-смысловое зрительное воздействие антарктических явлений. И, следовательно, исключающими какую-либо одномерность интерпретации. Например, сепия вступительных кадров отплытия вполне употребима и в ночном эпизоде лунного свечения, отраженного в ледяной скале.
Лента Понтинга, создававшаяся на всем протяжении экспедиции «Терра Нова» с 1911 по 1913 годы, вобрала в себя чрезвычайное напряжение воли полярников и сверхчеловеческие трудности, требующие, конечно, особого человеческого подхода: как при осуществлении задач экспедиции, так и при съемке и монтажной организации самого фильма. Забегая вперед, подчеркнем, что «Вечное молчание» стало крупным кинематографическим событием, в значительной мере определившим сложение эпического киноархетипа Флаэрти, и, соответственно, развитие документального кино. Как пишет киновед Галина Прожико (на которую ввиду ограниченного количества релевантных материалов мы будем часто ссылаться): «Динамичное киноповествование и выразительная образность статики фотографий создали особенный художественный эффект, который выделил картину из ряда экспедиционных лент не только того времени, но и последующих десятилетий» [3].
И пусть въедливого читателя не смущает дата демонстрации фильма, которая фигурирует в переиздании 2011 года и доказывает, казалось бы, двухлетнее отставание от «Нанука с Севера» Флаэрти. Первая его часть (1000 метров пленки), составленная из кадров отплытия из Новой Зеландии и устройства зимовки на Земле Виктории, была готова уже в 1911 году. Показ вызвал «большой интерес» [4] у зрителя. Повторная же демонстрация в 1924 году, вероятно, была оправдана успехом «Нанука», спровоцировавшим рост интереса к документальному кино.
Предпринятое Понтингом путешествие на Южный полюс, в пространство экстраординарное, отличное от привычной действительности обжитых человеком континентов, создало почти фантастическую дикованность отснятого материала. Неизведанность ледяных просторов составила творческую свободу документалиста, определила его конструктивную вольность, могущую приладиться к самобытной динамике любого запечатленного объективом события этого холодного «края Земли». Отсюда многообразие документального материала и в результате комплексная неоднородность его конечного монтажного сложения. «В отличие от других хроникеров, ограничившихся лишь информационным киносообщением о факте экспедиций в Арктику или Антарктику, Понтинг создал точный дневник экспедиции, наполненный не только драматическим напряжением сюжета, но и множеством выразительных образных деталей, доступных человеку не случайному, прожившему много дней рядом с этими людьми и этой природой» [5], — отмечает Прожико. Простая, на первый взгляд, задача хроникальной фиксации хода экспедиции разрешается Понтингом в усложненной форме жанровой полифонии, внутри которой, несмотря на неразрывную контекстную связь, виднеются окромя событийной экзотической хроники сегменты иных, вполне самостоятельных протожанровых образований.
Так, визуальным лейтмотивом выступает именно дневниковая форма, составленная из хаотичных, но органично объединенных кино- и фотовпечатлений — наблюдений за статичной динамикой или динамической, скульптурной статикой «белого безмолвия», самой своей уникальностью исключающей какую бы то ни было априорность взгляда. Это справедливо даже при условии длительной жизни в запечатлеваемом камерой месте, которое, как правило, притупляет остроту зрения.
Образы разбивающего лед носа корабля «Терра Нова», замерзшей воды в форме «блинчиков», тянущегося холодного тумана, фантастических пещер и эпических снежных скал, схваченные «каким-то чутьем» [6], — как отзывался о рабочем процессе документалиста капитан Скотт, — составляют ведущую, наиболее выразительную линию видимого на экране. Из-за значимости этого жанрового элемента о нем следует рассказать подробнее. Кракауэр полагал [7], что фотограф (коим и является Понтинг) проявляет свою индивидуальность в подчинении, растворении ее в окружающей действительности, а не в самостоятельных рукотворных произведениях. Иначе говоря, творческий процесс фотографа можно определить как инстинктивный, надсознательный, интуитивный поиск жизненных впечатлений. Поскольку кино неизбежно несет в себе фотографическое качество, это определение объясняет также и фотогеническую сущность понтинговского фильма.
Его метод действительно заключается в «максимальном проникновении в предмет», ибо «красота… выявляется фотографией, а не создается заново» [8], как определял фотогению Деллюк, и чем собственно является рефлекторное зрительное впечатление, перенесенное в рамки кадра. Чистота и выразительность схваченного впечатления подтверждается вертовскими усилиями, которые предпринимал Понтинг в процессе съемок, прилаживая собственное зрение к тому или иному явлению. То он выстроит отвесные дощечки с мачты, дабы запечатлеть нос корабля, то будет терпеть муки холода, фиксируя отправление небольших экспедиционных групп к центру полюса… Отсюда фантастический экстерьер непосредственно запечатленных образов, поражающих сознание зрителя своей сказочной экстравагантностью. Этот экстерьер подчеркнут универсальным тонированием кадров различными оттенками, усиливающими темпоритм, эмоционально-смысловое зрительное воздействие антарктических явлений. И, следовательно, исключающими какую-либо одномерность интерпретации. Например, сепия вступительных кадров отплытия вполне употребима и в ночном эпизоде лунного свечения, отраженного в ледяной скале.
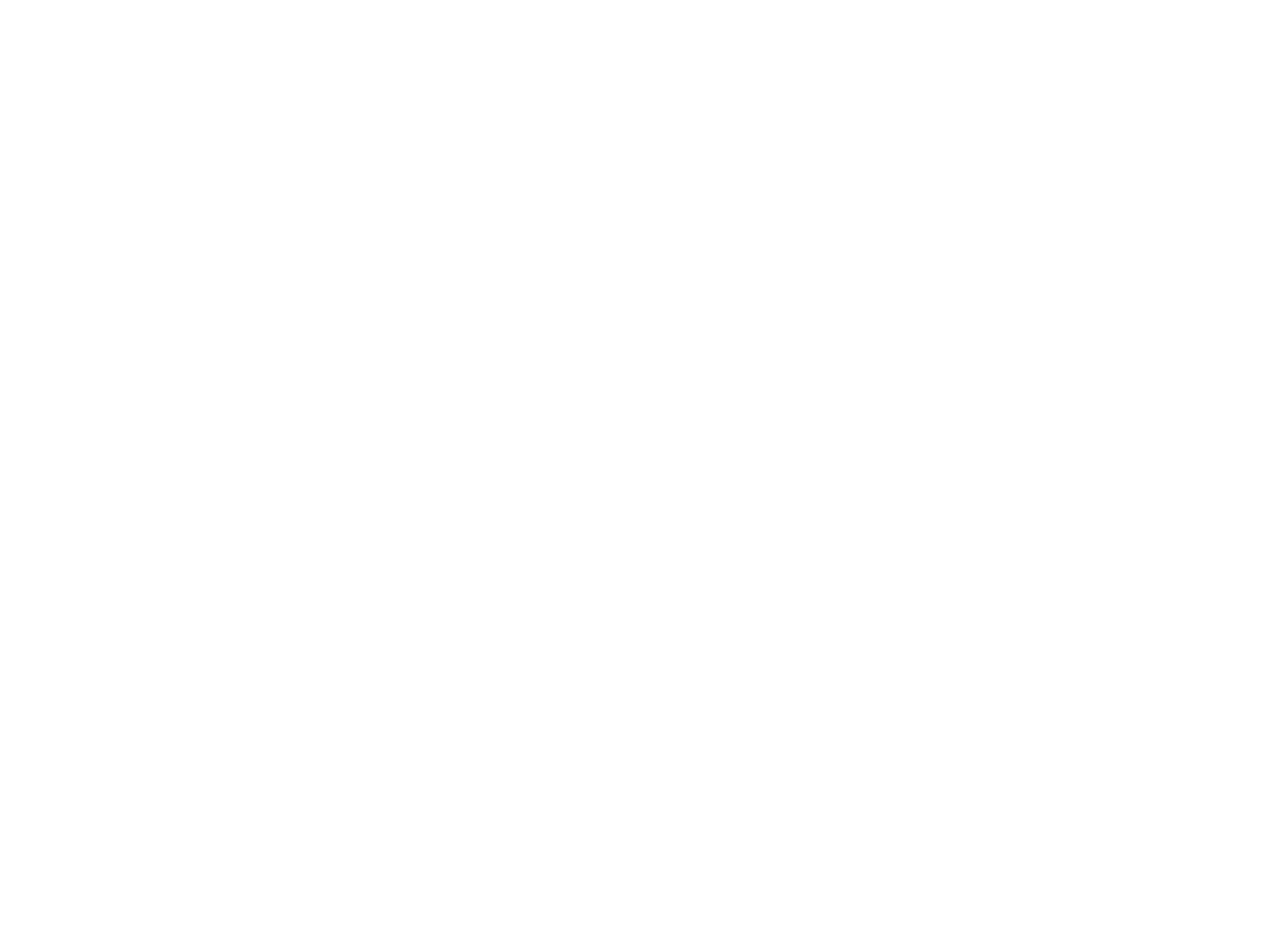
Именно непосредственность документалиста, принявшего «правила игры» промерзших пространств, оказалась адекватной формой зрительного восприятия и наиболее полного выражения уникальности проявлений природы Южного полюса, этого давления «невыразимого, которое хочет себя высказать» [9]. В случае с Понтингом это единственно возможная форма, поскольку, во-первых, он — фотограф, творческий процесс которого, как было подмечено выше, подразумевает импровизационность, подчиненность физической действительности, а во-вторых — документалист-любитель, закончивший перед экспедицией короткие курсы обращения с камерой. Понтинг оказался со всех сторон свободным от уже нарождающихся штампов кинотворчества, а, стало быть, могущим импровизировать изображение, выискивая жизненные впечатления. Важно подчеркнуть, что эта непосредственность получила свое развитие в руках капитана Роберта Скотта — отнюдь не фотографа или документалиста — обученного Понтингом. Капитан фиксировал продвижение исследовательской группы к полюсу вплоть до самой смерти. И не только пером в бумажном дневнике, но и камерой в дневнике экранном.
Конечно, «Вечное молчание» — не только экранный дневник, хотя дневниковые по существу кинокадры и фотографии, возникшие в этом качестве еще до Мекаса или даже до дадаистов, составляют композиционный костяк фильма. Этот костяк окаймляют иные жанровые вплетения, в числе которых можно выделить, например, волнующий драматизм научного зоологического наблюдения.
На экране разворачивается изложение жизни пингвинов с человеческим акцентом, ждущих рождение детишек-птенцов, переживающих соседские распри и терпящих «правонарушения» соплеменников или агрессию чаек-чужеземцев. Или любовное запечатление заботы матери-самки тюленя, которая учит детенышей «ходить», прогрызать зубами в толщине льда выход на поверхность. Самки, борющейся за спасение ослабшего тюлененка, безуспешно пытающегося выбраться из воды под угрозой группы касаток — «морских волков», вовремя отведенных прицельным выстрелом гарпуна. Эпизод борьбы тюленей и их спасения, к слову, соседствует с сухим фактологическим рассказом о пользе тюленьего мяса, спасающего от болезни мореплавателей — цинги. В числе прочих выделяется ироничный, даже «юморной» эпизод неудачных попыток чайки «угнездиться» в песке, согреть материнским теплом яйца. Столь же забавными предстают образы отдыхающего в снегу сибирского пони, дрессированного кота, выполняющего различные трюки, и упряжных овчарок, весело тянущих грузы по снегу или грызущихся за кусок тюленины. Иначе говоря, всюду эмоционально насыщенный фокус кинокамеры Понтинга, выявляющий напряженность и многогранность природного процесса — его живое лицо, схваченное нерукотворно, непосредственно. Как верно отмечал Ролан Барт, «не безразличие лишает образ тяжести, — ибо ничто лучше „объективного“ снимка, в стиле фотоавтоматов, поставленных в метро, не превратит вас в лицо, разыскиваемое полицией, — а любовь, высшая степень любви» [10].
Важным жанровым элементом выступают бытовые съемки, индивидуализирующие участников экспедиции, совмещенные со спортивным репортажем антарктического футбола и рабочей темой. Вместо фиксации безликой массы, затмевающей индивидуальность частного человеческого лица, что было характерно для хроники вплоть до 1930-х годов (фильм «Ночная почта» (1936) Бэзила Райта), Понтинг «оживляет» почти каждого участника экспедиции, не только давая им имена, но и фиксируя моменты отдыха, развлечения, личного переживания от возникших рабочих трудностей. Наиболее показателен завершающий этап фильма, в котором индивидуализация героев, придание им «лица» происходит в двухуровневом решении. С одной стороны, посредством упоминания полного имени и демонстрации статичных фотографий, а с другой — дневниковым запечатлением борьбы с холодом каждого конкретного участника последнего похода к Южному полюсу.
Надолго опережая развитие документальной тематической проблематики, Понтинг создает экранный жизненный документ «с человеческим лицом», c человеческими чувствами и мыслями — живой документ. И не только в избранном материале, в части содержания, но и в формальном построении, как мы старались раскрыть это выше. Именно сопряжение жизненности и человечности в формально-содержательной гармонии, о которой говорилось выше, определяет конечный художественный эффект «Вечного молчания». Фильм, вобравший в себя борьбу человека с суровой природой во имя науки, вводящий на экран посредством чистого впечатления самостоятельные чувства и мысли зрителя, перед глазами которого разворачивается безусловная действительность, разрешается волнующим катарсисом завершающей части — рассказом о несбывшемся экспедиционном первенстве и мучительной смерти капитана Скотта и его команды.
Многообразие жанровой структуры ленты Понтинга возникло вследствие богатства Антарктики на различные сюжеты. Иными словами, нарративная композиция крайне разнородна, чем, собственно, и была спровоцирована полифония жанров «Вечного молчания». Рассказ о Южном полюсе соткан из нескольких законченных очерков-историй, даже эпизодов, могущих существовать и впечатлять суверенно, независимо от общего строя фильма. Даже центральная линия Скотта, погибшего на подступах к зимовке, возникает отдельно в завершении фильма, имея лишь некоторые включенные кадры-намеки в начале и ближе к середине.
Поскольку содержательная структура «Вечного молчания» чрезвычайно сложна, фильм вмещает в себя всю сущность документального кино, почти все его ключевые жанры. Разумеется, сложной оказывается и структура формальная, частью раскрытая нами выше. Понтинг один из первых (если не первый) совмещает кино и фотоформы, сопрягает статику и движение, вскрывающие в своем единстве сущность Южного полюса — статичного и одновременно динамического. Бесконечные ледяные пространства, почти недвижимые, на деле полны внутреннего напряжения, подразумевающего экспрессивное движение. Это своего рода естественные скульптуры, сложенные временным течением. И здесь на ум приходят слова Тарковского, который считал, что кино — «это скульптура из времени» [11]. Вообще, скульптура — это сконденсированное напряжение. Пространство скульптурного образа пусть и не предполагает физического движения, но в нем заложены движения иного порядка. В художественной скульптуре — движение мысли и чувства. В естественной форме камня или, в нашем случае, в «архитектуре» антарктических снегов, изваянной природным процессом, фиксируется напряжение самой жизни и его отпечатки. Самобытность этих заснеженных пространств располагает не только к кинематографическому, но и к фотографическому запечатлению. Только тогда они получают свое объемное выражение на экране, ибо как считал Флаэрти, «камера — сверхглаз, позволяющий заметить малейшие оттенки и движения» [12].
Наконец, в «Вечном молчании» можно обнаружить анимированные иллюстрации (во всяком случае, в версии 1924 года), присутствие которых доводит до пределов сложную формальную структуру фильма. Из-за невозможности прямой фиксации хода движения к Южному полюсу капитана Скотта Понтинг продолжает повествование посредством движения линии на карте или анимированных прямоугольников на готовых фотографиях. Оживление анимации происходит не только и не столько посредством предания «картинкам» движения, сколько контекстом, составленным из кинокадров и фотографий, которые «Скотт отснял на полюсе» [13]. Контекстно обусловленный саспенс переносится на анимацию, усиливается в схематичных образах и, в результате, оказывает куда большее воздействие на зрителя сохранившимся кадрами — отнюдь не схематичными, но непосредственными, содержащими чистое впечатление происходящих печальных обстоятельств.
В этой же связи следует упомянуть о функциях, которые выполняют интертитры, занимающие весомую часть хронометража. Интертитры как читаемая форма видимого предстают на экране, с одной стороны, сугубо информационным изложением фактов, которые иллюстрируют фото и кинокадры. Справедливости ради, такое положение формирует меньшую часть всех интертитров, а потому упрекнуть Понтинга в извращении кинематографической природы не получается. Во-вторых, это самозначные титры-документы, сами по себе являющиеся фактом. Они, с одной стороны, неразрывно связаны с документальной структурой фильма, выступают неотъемлемой его частью, а с другой — приобретают значение целых эпизодов (например, дневник Скотта), насыщенных чувствами и мыслями, на которые резонирует сознание зрителя. В третьих, титры обозначают авторский комментарий, контрапунктно совмещенный с пространством видимого и обращенный к диалоговому взаимодействию со зрителем. Последние функции титров определяют их неощутимость для глаза и при этом сохраняют активное положение смотрящих. Ибо текст, представленный на экране, как правило, существенно утяжеляет, осложняет восприятие и отвлекает от видимого действия. В случае с Понтингом необходимая задача (кино в этот период все-таки было немым) решена предельно органично. Настолько, что титр не создает преград для зрения, провоцирует в самостоятельном зрителе эмоционально-чувственную активность, утверждая его право на субъективность интерпретации.
К полифонии жанровой и нарративной, таким образом, прибавляется определенная характером материала полифония форм видимого. Фильм Понтинга приобретает вид многоликого оркестра жизни, вмещающего всю суть документалистики, весь ее формальный объем, и саму природу кинематографа — жизненную (непосредственность) и человеческую (непосредственное переживание, впечатление) одновременно.
Конечно, «Вечное молчание» — не только экранный дневник, хотя дневниковые по существу кинокадры и фотографии, возникшие в этом качестве еще до Мекаса или даже до дадаистов, составляют композиционный костяк фильма. Этот костяк окаймляют иные жанровые вплетения, в числе которых можно выделить, например, волнующий драматизм научного зоологического наблюдения.
На экране разворачивается изложение жизни пингвинов с человеческим акцентом, ждущих рождение детишек-птенцов, переживающих соседские распри и терпящих «правонарушения» соплеменников или агрессию чаек-чужеземцев. Или любовное запечатление заботы матери-самки тюленя, которая учит детенышей «ходить», прогрызать зубами в толщине льда выход на поверхность. Самки, борющейся за спасение ослабшего тюлененка, безуспешно пытающегося выбраться из воды под угрозой группы касаток — «морских волков», вовремя отведенных прицельным выстрелом гарпуна. Эпизод борьбы тюленей и их спасения, к слову, соседствует с сухим фактологическим рассказом о пользе тюленьего мяса, спасающего от болезни мореплавателей — цинги. В числе прочих выделяется ироничный, даже «юморной» эпизод неудачных попыток чайки «угнездиться» в песке, согреть материнским теплом яйца. Столь же забавными предстают образы отдыхающего в снегу сибирского пони, дрессированного кота, выполняющего различные трюки, и упряжных овчарок, весело тянущих грузы по снегу или грызущихся за кусок тюленины. Иначе говоря, всюду эмоционально насыщенный фокус кинокамеры Понтинга, выявляющий напряженность и многогранность природного процесса — его живое лицо, схваченное нерукотворно, непосредственно. Как верно отмечал Ролан Барт, «не безразличие лишает образ тяжести, — ибо ничто лучше „объективного“ снимка, в стиле фотоавтоматов, поставленных в метро, не превратит вас в лицо, разыскиваемое полицией, — а любовь, высшая степень любви» [10].
Важным жанровым элементом выступают бытовые съемки, индивидуализирующие участников экспедиции, совмещенные со спортивным репортажем антарктического футбола и рабочей темой. Вместо фиксации безликой массы, затмевающей индивидуальность частного человеческого лица, что было характерно для хроники вплоть до 1930-х годов (фильм «Ночная почта» (1936) Бэзила Райта), Понтинг «оживляет» почти каждого участника экспедиции, не только давая им имена, но и фиксируя моменты отдыха, развлечения, личного переживания от возникших рабочих трудностей. Наиболее показателен завершающий этап фильма, в котором индивидуализация героев, придание им «лица» происходит в двухуровневом решении. С одной стороны, посредством упоминания полного имени и демонстрации статичных фотографий, а с другой — дневниковым запечатлением борьбы с холодом каждого конкретного участника последнего похода к Южному полюсу.
Надолго опережая развитие документальной тематической проблематики, Понтинг создает экранный жизненный документ «с человеческим лицом», c человеческими чувствами и мыслями — живой документ. И не только в избранном материале, в части содержания, но и в формальном построении, как мы старались раскрыть это выше. Именно сопряжение жизненности и человечности в формально-содержательной гармонии, о которой говорилось выше, определяет конечный художественный эффект «Вечного молчания». Фильм, вобравший в себя борьбу человека с суровой природой во имя науки, вводящий на экран посредством чистого впечатления самостоятельные чувства и мысли зрителя, перед глазами которого разворачивается безусловная действительность, разрешается волнующим катарсисом завершающей части — рассказом о несбывшемся экспедиционном первенстве и мучительной смерти капитана Скотта и его команды.
Многообразие жанровой структуры ленты Понтинга возникло вследствие богатства Антарктики на различные сюжеты. Иными словами, нарративная композиция крайне разнородна, чем, собственно, и была спровоцирована полифония жанров «Вечного молчания». Рассказ о Южном полюсе соткан из нескольких законченных очерков-историй, даже эпизодов, могущих существовать и впечатлять суверенно, независимо от общего строя фильма. Даже центральная линия Скотта, погибшего на подступах к зимовке, возникает отдельно в завершении фильма, имея лишь некоторые включенные кадры-намеки в начале и ближе к середине.
Поскольку содержательная структура «Вечного молчания» чрезвычайно сложна, фильм вмещает в себя всю сущность документального кино, почти все его ключевые жанры. Разумеется, сложной оказывается и структура формальная, частью раскрытая нами выше. Понтинг один из первых (если не первый) совмещает кино и фотоформы, сопрягает статику и движение, вскрывающие в своем единстве сущность Южного полюса — статичного и одновременно динамического. Бесконечные ледяные пространства, почти недвижимые, на деле полны внутреннего напряжения, подразумевающего экспрессивное движение. Это своего рода естественные скульптуры, сложенные временным течением. И здесь на ум приходят слова Тарковского, который считал, что кино — «это скульптура из времени» [11]. Вообще, скульптура — это сконденсированное напряжение. Пространство скульптурного образа пусть и не предполагает физического движения, но в нем заложены движения иного порядка. В художественной скульптуре — движение мысли и чувства. В естественной форме камня или, в нашем случае, в «архитектуре» антарктических снегов, изваянной природным процессом, фиксируется напряжение самой жизни и его отпечатки. Самобытность этих заснеженных пространств располагает не только к кинематографическому, но и к фотографическому запечатлению. Только тогда они получают свое объемное выражение на экране, ибо как считал Флаэрти, «камера — сверхглаз, позволяющий заметить малейшие оттенки и движения» [12].
Наконец, в «Вечном молчании» можно обнаружить анимированные иллюстрации (во всяком случае, в версии 1924 года), присутствие которых доводит до пределов сложную формальную структуру фильма. Из-за невозможности прямой фиксации хода движения к Южному полюсу капитана Скотта Понтинг продолжает повествование посредством движения линии на карте или анимированных прямоугольников на готовых фотографиях. Оживление анимации происходит не только и не столько посредством предания «картинкам» движения, сколько контекстом, составленным из кинокадров и фотографий, которые «Скотт отснял на полюсе» [13]. Контекстно обусловленный саспенс переносится на анимацию, усиливается в схематичных образах и, в результате, оказывает куда большее воздействие на зрителя сохранившимся кадрами — отнюдь не схематичными, но непосредственными, содержащими чистое впечатление происходящих печальных обстоятельств.
В этой же связи следует упомянуть о функциях, которые выполняют интертитры, занимающие весомую часть хронометража. Интертитры как читаемая форма видимого предстают на экране, с одной стороны, сугубо информационным изложением фактов, которые иллюстрируют фото и кинокадры. Справедливости ради, такое положение формирует меньшую часть всех интертитров, а потому упрекнуть Понтинга в извращении кинематографической природы не получается. Во-вторых, это самозначные титры-документы, сами по себе являющиеся фактом. Они, с одной стороны, неразрывно связаны с документальной структурой фильма, выступают неотъемлемой его частью, а с другой — приобретают значение целых эпизодов (например, дневник Скотта), насыщенных чувствами и мыслями, на которые резонирует сознание зрителя. В третьих, титры обозначают авторский комментарий, контрапунктно совмещенный с пространством видимого и обращенный к диалоговому взаимодействию со зрителем. Последние функции титров определяют их неощутимость для глаза и при этом сохраняют активное положение смотрящих. Ибо текст, представленный на экране, как правило, существенно утяжеляет, осложняет восприятие и отвлекает от видимого действия. В случае с Понтингом необходимая задача (кино в этот период все-таки было немым) решена предельно органично. Настолько, что титр не создает преград для зрения, провоцирует в самостоятельном зрителе эмоционально-чувственную активность, утверждая его право на субъективность интерпретации.
К полифонии жанровой и нарративной, таким образом, прибавляется определенная характером материала полифония форм видимого. Фильм Понтинга приобретает вид многоликого оркестра жизни, вмещающего всю суть документалистики, весь ее формальный объем, и саму природу кинематографа — жизненную (непосредственность) и человеческую (непосредственное переживание, впечатление) одновременно.
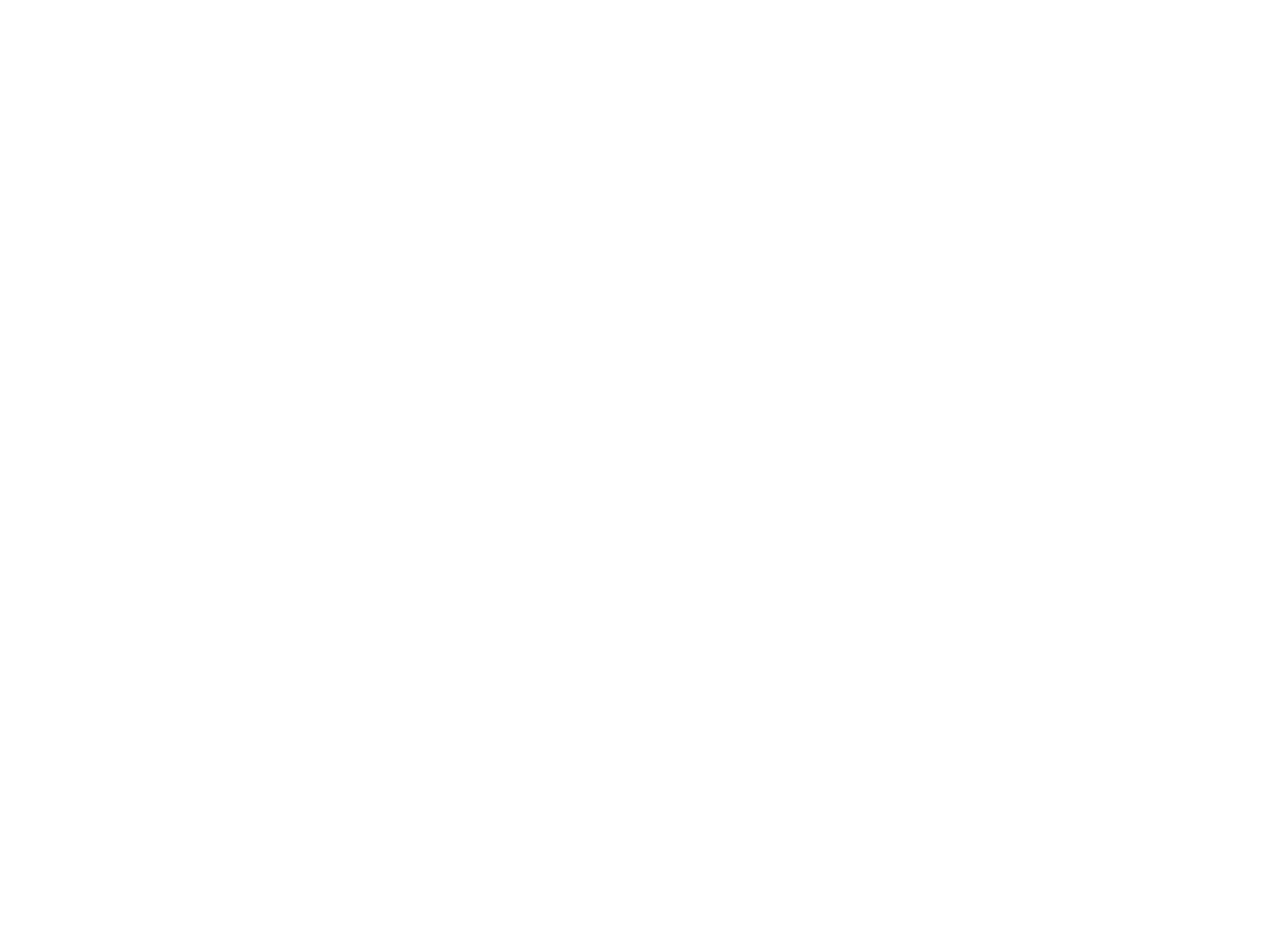
ПОНТИНГ И ФЛАЭРТИ: ДВА ГУМАНИЗМА, ПРАВДОПОДОБИЕ И ПРАВДА
Когда говорят о зарождении документального кино в качестве самостоятельного направления экранного искусства, то обыкновенно упоминают опыт Роберта Флаэрти, которого даже Джон Грирсон — один из праотцов документалистики — описывает в таких выражениях: «Перед нами — отец документального кино, с честным намерением сделать что-то по велению своего сердца» [14]. Однако, как мы продемонстрировали выше, этот подход, мягко говоря, неверный. Или в лучшем случае неполный.
Именно Герберт Понтинг оказывается предшественником большинства известных форм документа, вложенных в протосостоянии в фильм «Вечное молчание». Он во многом предвосхитил кинопрактику Флаэрти, определил верный подход к документальному наблюдению, не допустив флаэртианского парадокса — рукотворности, искусственности документа.
Кажущаяся схожесть кинозрения обоих документалистов на деле оказывается иллюзорной. И хотя методы их близки (долговременное существование в запечатлеваемом пространстве), равно как схожими видятся и темы их первых лент, говорить следует именно о различности, опрокидывающей мнимую близость. Так, несхожесть при более кропотливом анализе вскрывается в самих методах документального наблюдения.
Флаэрти рукотворен. Он допускает возможность инсценировки, «восстановления факта», скрывая за ширмой драматической выразительности свои авторские манипуляции на экране. Как пишет Прожико: «Ему нет нужды искать внешние признаки достоверности в кинонаблюдении за жизнью своих героев, автор свободно организует внутрикадровое действие для выражения скрытых сущностных особенности бытия персонажей» [15].
Показательна в этом смысле проверка «достоверности», которая предполагает демонстрацию отснятого материала Нануку и его семье. Эта проверка — акт прямого учинения насилия над действительностью и над героями фильма, облагораживающий правдоподобием личное зрение. Зрение, лишенное непосредственности и, стало быть, правды жизненных реалий. Нанук, знакомый с цивилизацией лишь по торговле с ее представителями, впервые сталкивается с явлением кинематографа, способным обмануть носителя несовершенной, неразвитой зрительной культуры. Как часто нам, жителям городов, постоянным посетителям киносеансов, всегда сосуществующих с кино, недостает кинематографической культуры, чтобы не столько даже не обмануться, сколько качественно воспринять видимое на экране! Что уж и говорить о мужественном эскимосе, ежедневно борющемся за выживание на диких берегах Гудзонова пролива.
Несколько иная ситуация в случае с Гербертом Понтингом. На первый взгляд, «Вечное молчание» не лишено рукотворного вмешательства во внутрикадровое действие. Например, перед камерой активно позирует команда, которая также помогает Понтингу в съемках, отгоняя чаек для лучшего кадра или веселя пингвинов. Однако здесь не все так однозначно. Понтинг оглашает в интертитрах каждое действие, которое было предпринято в процессе запечатления. Иначе говоря, документалист не скрывает своего присутствия в кадре. Прямое раскрытие всех рукотворных махинаций обращает последние в объект документальной фиксации, подвергая саму суть рукотворного деконструкции и разложению. На экране предстает нескрываемый факт исследовательской деятельности (экспедиции и самого Понтинга), которая неизбежно требует некоторой активности, вмешательства.
Сама эта «вмешательская» активность как неотъемлемая часть исследования фиксируется документально, непосредственно, не нарушая, но дополняя визуальный скелет чистых интуитивных впечатлений. Рукотворность, прямо представленная на экране, честно и без стремления ее затушевать, становится непосредственным документальным фактом, обогащающим представление зрителя о ходе экспедиции, частью которой был, конечно, и съемочный процесс Понтинга. Происходит реабилитация прямого качества запечатления кадров и фотографий, на которых позируют участники экспедиции. То же происходит и с другими проявлениями рукотворного, достоверность и жизненность которых легитимизированы и не вызывает сомнений. Ибо задачей Понтинга было зафиксировать на пленке ВЕСЬ ход экспедиции, а, следовательно, и процесс создания фильма.
Именно Герберт Понтинг оказывается предшественником большинства известных форм документа, вложенных в протосостоянии в фильм «Вечное молчание». Он во многом предвосхитил кинопрактику Флаэрти, определил верный подход к документальному наблюдению, не допустив флаэртианского парадокса — рукотворности, искусственности документа.
Кажущаяся схожесть кинозрения обоих документалистов на деле оказывается иллюзорной. И хотя методы их близки (долговременное существование в запечатлеваемом пространстве), равно как схожими видятся и темы их первых лент, говорить следует именно о различности, опрокидывающей мнимую близость. Так, несхожесть при более кропотливом анализе вскрывается в самих методах документального наблюдения.
Флаэрти рукотворен. Он допускает возможность инсценировки, «восстановления факта», скрывая за ширмой драматической выразительности свои авторские манипуляции на экране. Как пишет Прожико: «Ему нет нужды искать внешние признаки достоверности в кинонаблюдении за жизнью своих героев, автор свободно организует внутрикадровое действие для выражения скрытых сущностных особенности бытия персонажей» [15].
Показательна в этом смысле проверка «достоверности», которая предполагает демонстрацию отснятого материала Нануку и его семье. Эта проверка — акт прямого учинения насилия над действительностью и над героями фильма, облагораживающий правдоподобием личное зрение. Зрение, лишенное непосредственности и, стало быть, правды жизненных реалий. Нанук, знакомый с цивилизацией лишь по торговле с ее представителями, впервые сталкивается с явлением кинематографа, способным обмануть носителя несовершенной, неразвитой зрительной культуры. Как часто нам, жителям городов, постоянным посетителям киносеансов, всегда сосуществующих с кино, недостает кинематографической культуры, чтобы не столько даже не обмануться, сколько качественно воспринять видимое на экране! Что уж и говорить о мужественном эскимосе, ежедневно борющемся за выживание на диких берегах Гудзонова пролива.
Несколько иная ситуация в случае с Гербертом Понтингом. На первый взгляд, «Вечное молчание» не лишено рукотворного вмешательства во внутрикадровое действие. Например, перед камерой активно позирует команда, которая также помогает Понтингу в съемках, отгоняя чаек для лучшего кадра или веселя пингвинов. Однако здесь не все так однозначно. Понтинг оглашает в интертитрах каждое действие, которое было предпринято в процессе запечатления. Иначе говоря, документалист не скрывает своего присутствия в кадре. Прямое раскрытие всех рукотворных махинаций обращает последние в объект документальной фиксации, подвергая саму суть рукотворного деконструкции и разложению. На экране предстает нескрываемый факт исследовательской деятельности (экспедиции и самого Понтинга), которая неизбежно требует некоторой активности, вмешательства.
Сама эта «вмешательская» активность как неотъемлемая часть исследования фиксируется документально, непосредственно, не нарушая, но дополняя визуальный скелет чистых интуитивных впечатлений. Рукотворность, прямо представленная на экране, честно и без стремления ее затушевать, становится непосредственным документальным фактом, обогащающим представление зрителя о ходе экспедиции, частью которой был, конечно, и съемочный процесс Понтинга. Происходит реабилитация прямого качества запечатления кадров и фотографий, на которых позируют участники экспедиции. То же происходит и с другими проявлениями рукотворного, достоверность и жизненность которых легитимизированы и не вызывает сомнений. Ибо задачей Понтинга было зафиксировать на пленке ВЕСЬ ход экспедиции, а, следовательно, и процесс создания фильма.
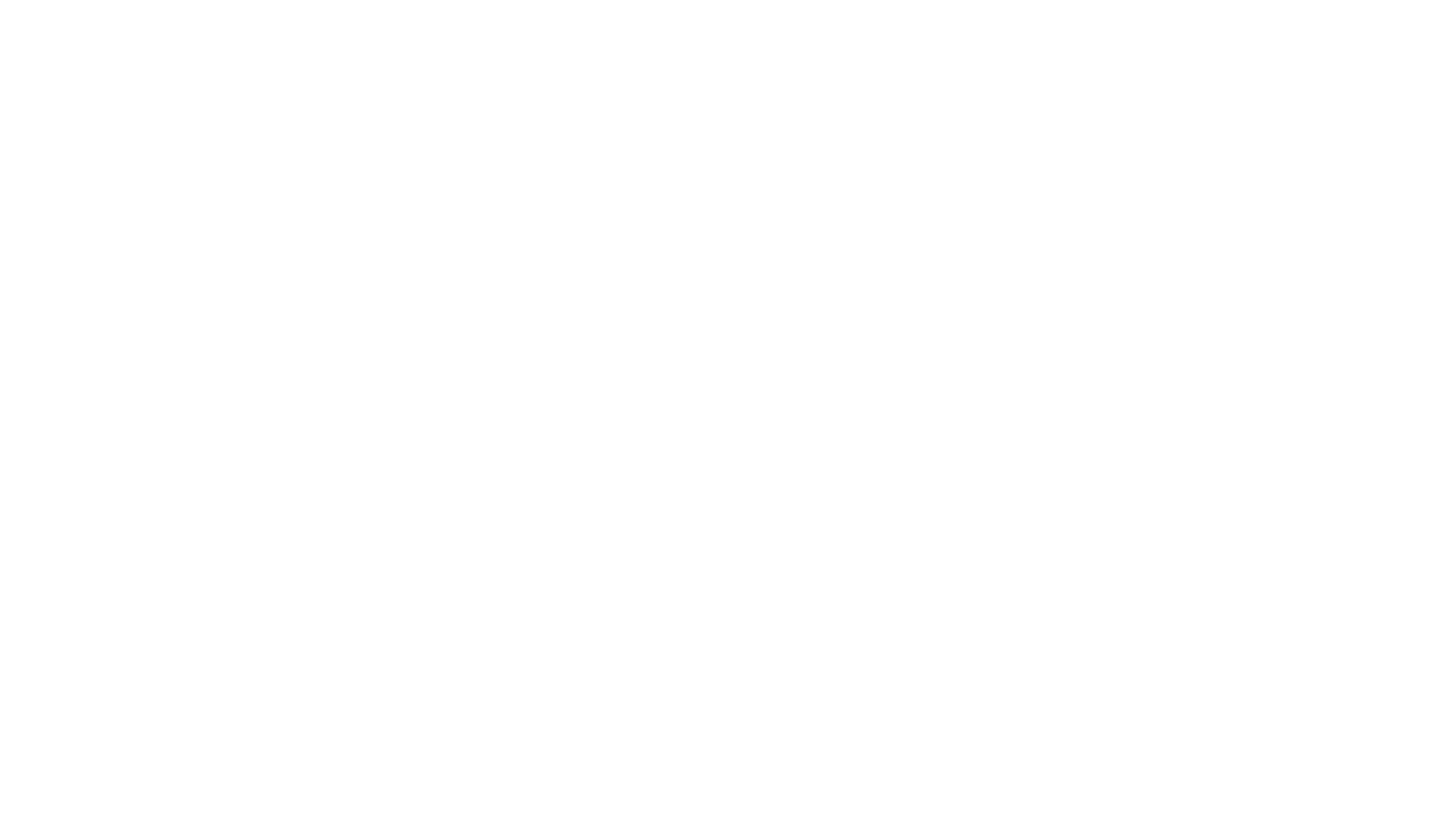
Таким образом, Понтинг поддерживает дуальную гармонию жизненного и человеческого качеств документального кино, что выражается в том числе в многообразной киноконструкции его фильма. Во флаэртианском «Нануке», в свою очередь, эта гармония искажается активным и притом скрываемым авторским методом, снижающим концентрацию жизненности и увеличивающим конструктивное значение человеческого фактора. Этот момент сказывается соответственно и на части смыслового содержания, также являющегося причиной разграничения Понтинга-Флаэрти. Речь идет о двух совершенно разных гуманизмах.
Для «гуманистического пафоса прославления человека» Флаэрти, как его определила Прожико, характерен конкретный нарративный архетип: человек преодолевает себя, борется с природой за выживание. Иначе говоря, необходимым условием проявления флаэртианского гуманизма выступает наличие конфликта человека и природы. Именно здесь кроется основная проблема.
Отнюдь не только человек прославляет себя, преодолевая суровость природы. На это способны и животные, что доказывает Понтинг в «Вечном молчании» в не менее, а, скорее, даже более волнующем эпизоде, где самка тюленя пытается спасти своего детеныша от касаток (вспомним, как человек склонен сопереживать животным).
Превосходя размытый флаэртианский гуманизм, адекватный в том числе и для животных, — гуманизм, лишенный сугубо человеческого лица — Понтинг предлагает иную гуманистическую риторику. Во главе угла документалист утверждает исследовательское стремление человека, homo sapiens’a, готового бороться с природой и самой жизнью не за выживание, не за кусок хлеба, а за знание о мире — за разум. Это сугубо человеческий гуманизм, пафос которого продиктован не автором, но самой неподконтрольной действительностью, с которой сталкивается всегда неподготовленный человек. Сопрягая жизненность и человечность, Понтинг доказывает свою гуманистическую концепцию посредством непридуманной истории о подвиге Роберта Скотта и его команды, погибшей, так и не дойдя до лагеря. Флаэрти же, жертвуя жизненным качеством, переводит свое понимание гуманизма в форму мертвой умозрительной абстракции, авторского символа, неотъемлемой идейной части почерка, который незамедлительно опрокидывается своевольной жизнью. Опрокидывается так, что завершающий (и наиболее значимый) акт поднявшейся метели в «Нануке» вызывает сопереживание отнюдь не главному герою, не человеку, но собакам, стойко переносящим холод.
Различия в трактовке гуманизма, который составляет смысловой стержень содержательной части обоих фильмов, тесно связаны также и с фактором внешнего порядка. Речь идёт о гуманизме документального метода, аккумулированном в формальном построении, с которым первоначально сталкивается зрительский глаз.
Гуманистический мотив Флаэрти приобретает в результате активного и целенаправленного вмешательства в жизненное движение (из-за «восстановления фактов» или из-за того же обсуждения отснятого с героями) вполне определенное лицо автора. Это не Гуманизм как таковой, но гуманизм конкретного человека — флаэртианский гуманизм, оседающий одномерными смыслами в сознании зрителя без права последнего на герменевтическую инициативу. Именно с этим связана сложившаяся в киноведческой среде традиционная интерпретация Флаэрти, озвученная Прожико выше. Кажущийся гуманизм творческого метода режиссера на деле оказывается ложным: ни с точки зрения самоигрального жизненного потока, который не получает своего адекватного выражения на пленке, ни с позиции зрителя и его человеческой свободы перед видимым на экране.
Метод Понтинга, в отличие от метода Флаэрти, располагает именно к Гуманизму — как в содержании, так и в форме, в ее восприятии зрителем. Отсюда закономерно возникает разграничение правды и правдоподобия в контексте дихотомии Понтинга-Флаэрти.
Каждый человек воспринимает жизнь по-своему. Объективная реальность, а значит и ее правда — результат коллективного субъективного существования. Для каждого конкретного человека жизнь приобретает уникальное, обусловленное этим человеком смысловое и чувственное выражение. Именно из множества таких субъективных выражений слагается объективная действительность, не ограниченная частным человеческим взглядом и, одновременно, способная вместить в себя мысль и чувство каждого человека. Сохраняя высокую концентрацию чистого впечатления, исключающего какую бы то ни было априорность авторской интенции, Понтинг располагает каждого зрителя к собственному суждению, к личному переживанию.
Иначе будет сказано: «Так как жизнь воспринимается каждым человеком по-разному, фильм, поощряющий возможность субъективной зрительской инициативы, аккумулирующий чистое впечатление не только автора, но и зрителя, выражает в наибольшей полноте это объективное свойство действительности». Это и есть подлинная (не только понтинговская) правда, отличная от правдоподобия авторского зрения Флаэрти, которым последний усиленно облагораживает свои авторские внушения.
Для «гуманистического пафоса прославления человека» Флаэрти, как его определила Прожико, характерен конкретный нарративный архетип: человек преодолевает себя, борется с природой за выживание. Иначе говоря, необходимым условием проявления флаэртианского гуманизма выступает наличие конфликта человека и природы. Именно здесь кроется основная проблема.
Отнюдь не только человек прославляет себя, преодолевая суровость природы. На это способны и животные, что доказывает Понтинг в «Вечном молчании» в не менее, а, скорее, даже более волнующем эпизоде, где самка тюленя пытается спасти своего детеныша от касаток (вспомним, как человек склонен сопереживать животным).
Превосходя размытый флаэртианский гуманизм, адекватный в том числе и для животных, — гуманизм, лишенный сугубо человеческого лица — Понтинг предлагает иную гуманистическую риторику. Во главе угла документалист утверждает исследовательское стремление человека, homo sapiens’a, готового бороться с природой и самой жизнью не за выживание, не за кусок хлеба, а за знание о мире — за разум. Это сугубо человеческий гуманизм, пафос которого продиктован не автором, но самой неподконтрольной действительностью, с которой сталкивается всегда неподготовленный человек. Сопрягая жизненность и человечность, Понтинг доказывает свою гуманистическую концепцию посредством непридуманной истории о подвиге Роберта Скотта и его команды, погибшей, так и не дойдя до лагеря. Флаэрти же, жертвуя жизненным качеством, переводит свое понимание гуманизма в форму мертвой умозрительной абстракции, авторского символа, неотъемлемой идейной части почерка, который незамедлительно опрокидывается своевольной жизнью. Опрокидывается так, что завершающий (и наиболее значимый) акт поднявшейся метели в «Нануке» вызывает сопереживание отнюдь не главному герою, не человеку, но собакам, стойко переносящим холод.
Различия в трактовке гуманизма, который составляет смысловой стержень содержательной части обоих фильмов, тесно связаны также и с фактором внешнего порядка. Речь идёт о гуманизме документального метода, аккумулированном в формальном построении, с которым первоначально сталкивается зрительский глаз.
Гуманистический мотив Флаэрти приобретает в результате активного и целенаправленного вмешательства в жизненное движение (из-за «восстановления фактов» или из-за того же обсуждения отснятого с героями) вполне определенное лицо автора. Это не Гуманизм как таковой, но гуманизм конкретного человека — флаэртианский гуманизм, оседающий одномерными смыслами в сознании зрителя без права последнего на герменевтическую инициативу. Именно с этим связана сложившаяся в киноведческой среде традиционная интерпретация Флаэрти, озвученная Прожико выше. Кажущийся гуманизм творческого метода режиссера на деле оказывается ложным: ни с точки зрения самоигрального жизненного потока, который не получает своего адекватного выражения на пленке, ни с позиции зрителя и его человеческой свободы перед видимым на экране.
Метод Понтинга, в отличие от метода Флаэрти, располагает именно к Гуманизму — как в содержании, так и в форме, в ее восприятии зрителем. Отсюда закономерно возникает разграничение правды и правдоподобия в контексте дихотомии Понтинга-Флаэрти.
Каждый человек воспринимает жизнь по-своему. Объективная реальность, а значит и ее правда — результат коллективного субъективного существования. Для каждого конкретного человека жизнь приобретает уникальное, обусловленное этим человеком смысловое и чувственное выражение. Именно из множества таких субъективных выражений слагается объективная действительность, не ограниченная частным человеческим взглядом и, одновременно, способная вместить в себя мысль и чувство каждого человека. Сохраняя высокую концентрацию чистого впечатления, исключающего какую бы то ни было априорность авторской интенции, Понтинг располагает каждого зрителя к собственному суждению, к личному переживанию.
Иначе будет сказано: «Так как жизнь воспринимается каждым человеком по-разному, фильм, поощряющий возможность субъективной зрительской инициативы, аккумулирующий чистое впечатление не только автора, но и зрителя, выражает в наибольшей полноте это объективное свойство действительности». Это и есть подлинная (не только понтинговская) правда, отличная от правдоподобия авторского зрения Флаэрти, которым последний усиленно облагораживает свои авторские внушения.
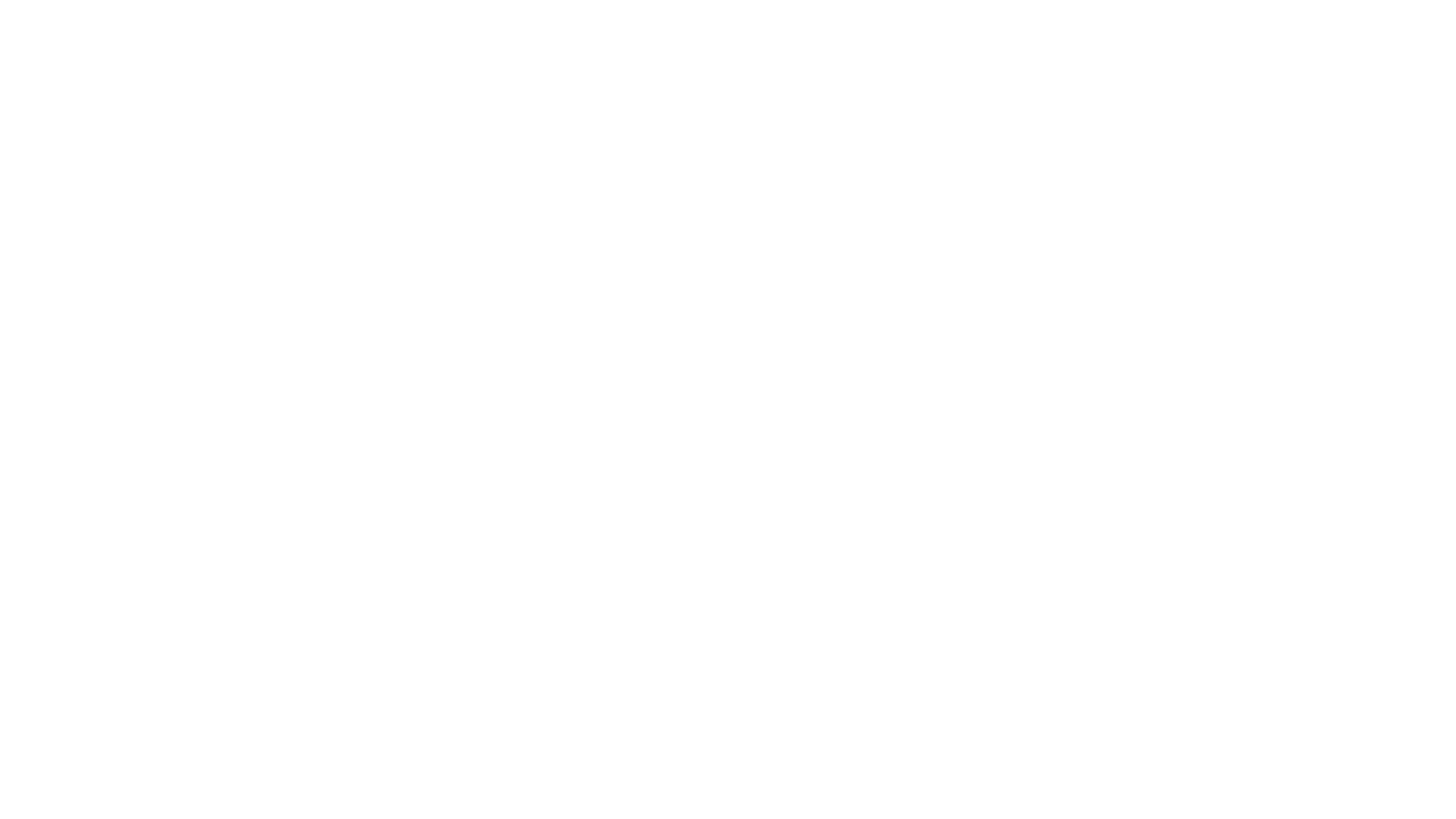
«Вечное молчание», обращенное образами жизненной реальности прямо к человеку, волнует при каждом повторном просмотре, впечатляет, вырезая в памяти фантастические образы Южного полюса. Самобытная природа, жизнь и история открытия этого «края Земли», сложенная замерзшей кровью героев экспедиции «Терра Нова», решены новаторски, в предвосхищении будущего документа, в жизненно-человеческом качественном единстве, воплощающим природу документального кино. Поэтому, как кажется, именно Понтинга следует назвать праотцом документалистики — первым документалистом, попробовавшим на ощупь объем и возможности документального кино.
Редактор: Сергей Чацкий
Редактор: Сергей Чацкий
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.
Феликс Месгиш, Tours de manivelle (1933)
Р. Барт, «Смерть автора» (1967)
Г.С. Прожико, «Экран мировой документалистики: Очерки становления языка зарубежного документального кино» (2011)
См. предыдущий источник
См. предыдущий источник
Р.Ф. Скотт, «Экспедиция к Южному полюсу. 1910 — 1912 гг. Прощальные письма» (2007)
З. Кракауэр, «Природа фильма. Реабилитация физической реальности» (1960)
Л. Деллюк, «Фотогения» (1919)
Р. Барт, Camera Lucida (1980)
См. предыдущий источник
А. Тарковский, «Курс лекций по кинорежиссуре» (1981)
Ж. Садуль, «Всеобщая история кино», т.4 (1950—1975)
Г.С. Прожико, «Экран мировой документалистики: Очерки становления языка зарубежного документального кино» (2011)
Р. Флаэрти, «Роберт Флаэрти: Статьи. Свидетельства. Сценарии», сборник (1980)
Г.С. Прожико, «Экран мировой документалистики: Очерки становления языка зарубежного документального кино» (2011)