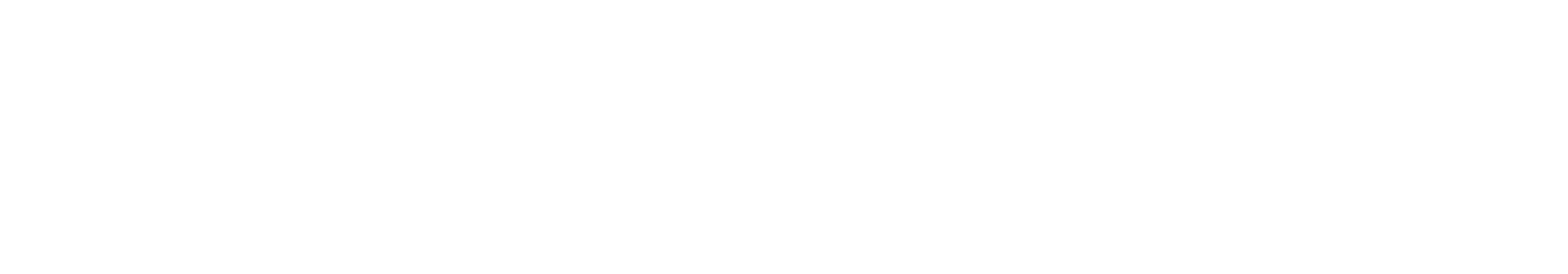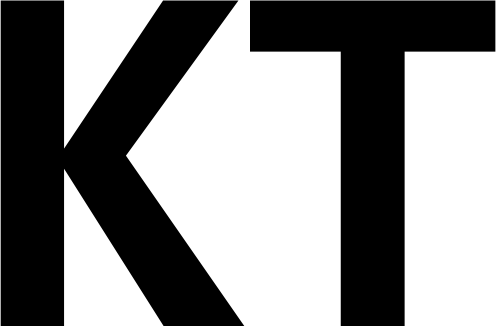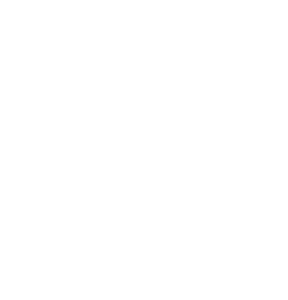ЕКАТЕРИНА УВАРОВА | 14 МАЯ 2023
ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ ТАРАМАЕВЫМ И ЛЮБОВЬЮ ЛЬВОВОЙ
Разговор с создателями сериалов «Фишер» и «Черная весна», сценаристами и режиссерами, которые поставили фильмы «Зимний путь» и «Метаморфозис»
ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ ТАРАМАЕВЫМ И ЛЮБОВЬЮ ЛЬВОВОЙ
ЕКАТЕРИНА УВАРОВА | 14.05.2023
Разговор с создателями сериалов «Фишер» и «Черная весна», сценаристами и режиссерами, которые поставили фильмы «Зимний путь» и «Метаморфозис»
ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ ТАРАМАЕВЫМ И ЛЮБОВЬЮ ЛЬВОВОЙ
ЕКАТЕРИНА УВАРОВА | 14.05.2023
Разговор с создателями сериалов «Фишер» и «Черная весна», сценаристами и режиссерами, которые поставили фильмы «Зимний путь» и «Метаморфозис»
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
«Фишер» — сериал о поисках серийного убийцы Сергея Головкина, что орудовал в Подмосковье на закате существования СССР.
Сергей Тарамаев и Любовь Львова — люди, которые это шоу срежиссировали.
Екатерина Уварова — автор «Кинотекстов», вошедшая с нашими героями в диалог, дабы выяснить, каково это — творить в соавторстве, какая атмосфера царит на съемочной площадке мрачного триллера, и почему современный зритель требует все больше и больше экранной жестокости.
Ну и без вечных вопросов про постижение идеального и спасение мира через искусство, разумеется, не обошлось…
Сергей Тарамаев и Любовь Львова — люди, которые это шоу срежиссировали.
Екатерина Уварова — автор «Кинотекстов», вошедшая с нашими героями в диалог, дабы выяснить, каково это — творить в соавторстве, какая атмосфера царит на съемочной площадке мрачного триллера, и почему современный зритель требует все больше и больше экранной жестокости.
Ну и без вечных вопросов про постижение идеального и спасение мира через искусство, разумеется, не обошлось…
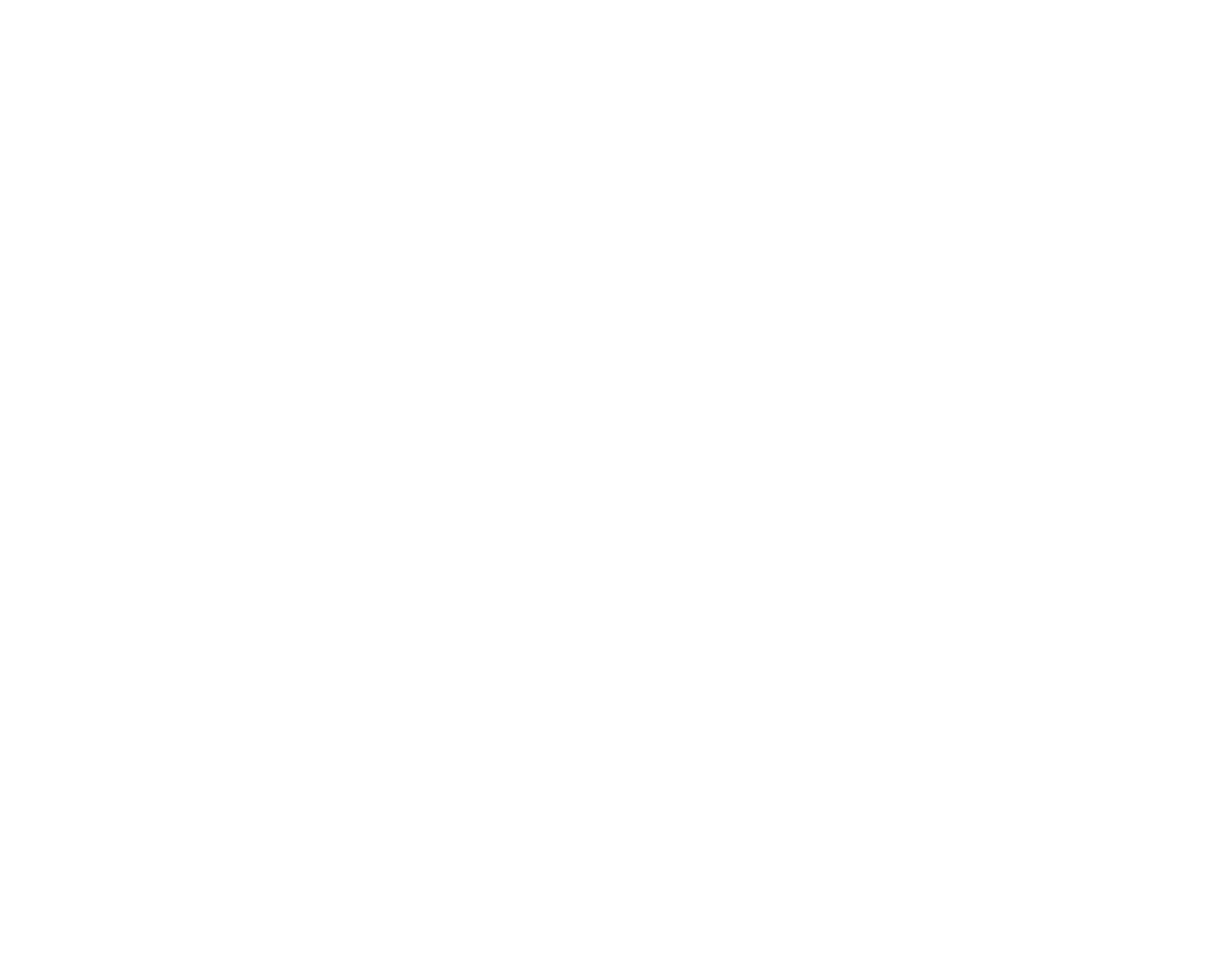
Сергей Тарамаев и Любовь Львова
Ph: пресс-служба START
Ph: пресс-служба START
Екатерина: Я читала, что вы практически все делаете вместе и что у вас даже один телефон на двоих. Как получается работать над сценариями и съемками вместе? Кто за что отвечает? Как происходит такой процесс творчества?
Сергей: Мне сразу хочется пошутить, сказать, что я обычно отвечаю за мойку посуды и готовку. Поймите правильно, нас все время хотят разделить. Наверное, есть недоверие к тому, что можно существовать в какой-то абсолютно единой оболочке — не только личностной, но и профессиональной. Про телефон — да, так и есть. Это некая, сразу говорящая о нас с Любой многое, черта. Даже в магазин Люба иногда хочет пойти одна, но мы все равно идем вместе. Также и касаемо сценариев. Так как мы не профессионалы, мы пришли к этому совершенно интуитивным способом. Было только одно единственное объединяющее нас начало — то, что мы любим кино. А дальше мы начали обучать и влиять друг на друга, потому что Люба говорила: «Сереж, ты должен прочитать именно эти книжки». А я говорил: «Люб, а ты должна посмотреть именно эти фильмы». А Люба говорила: «Ты должен послушать именно эту музыку». Я говорил: «Ты должна обратить внимание на эту живопись». Короче говоря, этот процесс был достаточно длительным до того, как мы вообще начали писать. Поэтому сам момент написания был настолько единым, что разделить его было невозможно. Мы неразрывно это все делаем. Разделения нет.
Екатерина: Раньше вы снимали более чувственные фильмы и сериалы, которые были нацелены на изучение природы человеческой души, конфликт человека с миром. Как вы придумываете эти истории, этих героев и то, что с ними потом происходит? От чего отталкиваетесь?
Любовь: Мы вообще любим фильмы, где происходят сильные трансформации. Для нас истории вообще не существует, если нет изменения, если нет перехода в какое-то совершенно другое состояние — либо упадническое, вниз, в ад, либо в небо, где человек обретает какую-то свободу. Не Боженьку, но какой-то свет. Без него, без этого изменения, истории нет для нас.
Екатерина: В одном интервью вы сказали, что любите абсолютно всех своих героев, кроме разве что тех людей, что избивают хоккейными клюшками в «Зимнем пути». То есть тех, которые прибегают к насилию и агрессии. Как вы относились к Фишеру? Получилось ли сделать его таким, каким и задумывалось?
Сергей: Отношение к маньяку, чисто человеческое, в отрыве от искусства — оно, конечно, отрицательное. Такой человек — это исчадие ада, изверг, он убивает детей. Но когда запускается кинопроцесс, то там включаются другие вещи. Ты хочешь понять, почему маньяк делает то, что делает.
Любовь: Да, ты хочешь найти в нем что-то человеческое. Иначе его невозможно никак выразить.
Сергей: Наступает момент, когда приходит артист. Точнее, ты понимаешь, что этот персонаж должен иметь какой-то человеческий облик.
Любовь: Он же не висит в воздухе.
Сергей: Да, это не чудище из леса без отца и матери начинает жрать всех. Оно имеет какую-то почву, маму, папу, общественные связи и даже друзей. И тогда ты задумываешься, как воплотить это исчадие ада, которое живет рядом с тобой. Он же человек. И он же делает это неслучайно. Мы хотим понять его логику. Чтобы воплощать такой страшный персонаж, должен быть очень близкий контакт с артистом. Мы должны доверять ему, войти с ним самим в человеческие отношения, чтобы это воплотить мощно, сильно и убедительно. И вот уже здесь выступает зона любви. Но любви к артисту, к исполнителю, и после она даже может распространиться на персонажа. Мы настолько прикипели к Андрею Максимову (актер, исполнивший роль серийного убийцы Фишера — прим.ред.), что в каких-то сценах стали пытаться его чересчур очеловечить. Например, в сценах допроса, где он слабый, где он плачет. Но от этого весь его негатив не исчезает.
Любовь: Да, персонаж становится объемным.
Сергей: Зло принимает сложную форму. Оно становится более опасным, потому что оно человеческое, оно не сказочное.
Сергей: Мне сразу хочется пошутить, сказать, что я обычно отвечаю за мойку посуды и готовку. Поймите правильно, нас все время хотят разделить. Наверное, есть недоверие к тому, что можно существовать в какой-то абсолютно единой оболочке — не только личностной, но и профессиональной. Про телефон — да, так и есть. Это некая, сразу говорящая о нас с Любой многое, черта. Даже в магазин Люба иногда хочет пойти одна, но мы все равно идем вместе. Также и касаемо сценариев. Так как мы не профессионалы, мы пришли к этому совершенно интуитивным способом. Было только одно единственное объединяющее нас начало — то, что мы любим кино. А дальше мы начали обучать и влиять друг на друга, потому что Люба говорила: «Сереж, ты должен прочитать именно эти книжки». А я говорил: «Люб, а ты должна посмотреть именно эти фильмы». А Люба говорила: «Ты должен послушать именно эту музыку». Я говорил: «Ты должна обратить внимание на эту живопись». Короче говоря, этот процесс был достаточно длительным до того, как мы вообще начали писать. Поэтому сам момент написания был настолько единым, что разделить его было невозможно. Мы неразрывно это все делаем. Разделения нет.
Екатерина: Раньше вы снимали более чувственные фильмы и сериалы, которые были нацелены на изучение природы человеческой души, конфликт человека с миром. Как вы придумываете эти истории, этих героев и то, что с ними потом происходит? От чего отталкиваетесь?
Любовь: Мы вообще любим фильмы, где происходят сильные трансформации. Для нас истории вообще не существует, если нет изменения, если нет перехода в какое-то совершенно другое состояние — либо упадническое, вниз, в ад, либо в небо, где человек обретает какую-то свободу. Не Боженьку, но какой-то свет. Без него, без этого изменения, истории нет для нас.
Екатерина: В одном интервью вы сказали, что любите абсолютно всех своих героев, кроме разве что тех людей, что избивают хоккейными клюшками в «Зимнем пути». То есть тех, которые прибегают к насилию и агрессии. Как вы относились к Фишеру? Получилось ли сделать его таким, каким и задумывалось?
Сергей: Отношение к маньяку, чисто человеческое, в отрыве от искусства — оно, конечно, отрицательное. Такой человек — это исчадие ада, изверг, он убивает детей. Но когда запускается кинопроцесс, то там включаются другие вещи. Ты хочешь понять, почему маньяк делает то, что делает.
Любовь: Да, ты хочешь найти в нем что-то человеческое. Иначе его невозможно никак выразить.
Сергей: Наступает момент, когда приходит артист. Точнее, ты понимаешь, что этот персонаж должен иметь какой-то человеческий облик.
Любовь: Он же не висит в воздухе.
Сергей: Да, это не чудище из леса без отца и матери начинает жрать всех. Оно имеет какую-то почву, маму, папу, общественные связи и даже друзей. И тогда ты задумываешься, как воплотить это исчадие ада, которое живет рядом с тобой. Он же человек. И он же делает это неслучайно. Мы хотим понять его логику. Чтобы воплощать такой страшный персонаж, должен быть очень близкий контакт с артистом. Мы должны доверять ему, войти с ним самим в человеческие отношения, чтобы это воплотить мощно, сильно и убедительно. И вот уже здесь выступает зона любви. Но любви к артисту, к исполнителю, и после она даже может распространиться на персонажа. Мы настолько прикипели к Андрею Максимову (актер, исполнивший роль серийного убийцы Фишера — прим.ред.), что в каких-то сценах стали пытаться его чересчур очеловечить. Например, в сценах допроса, где он слабый, где он плачет. Но от этого весь его негатив не исчезает.
Любовь: Да, персонаж становится объемным.
Сергей: Зло принимает сложную форму. Оно становится более опасным, потому что оно человеческое, оно не сказочное.
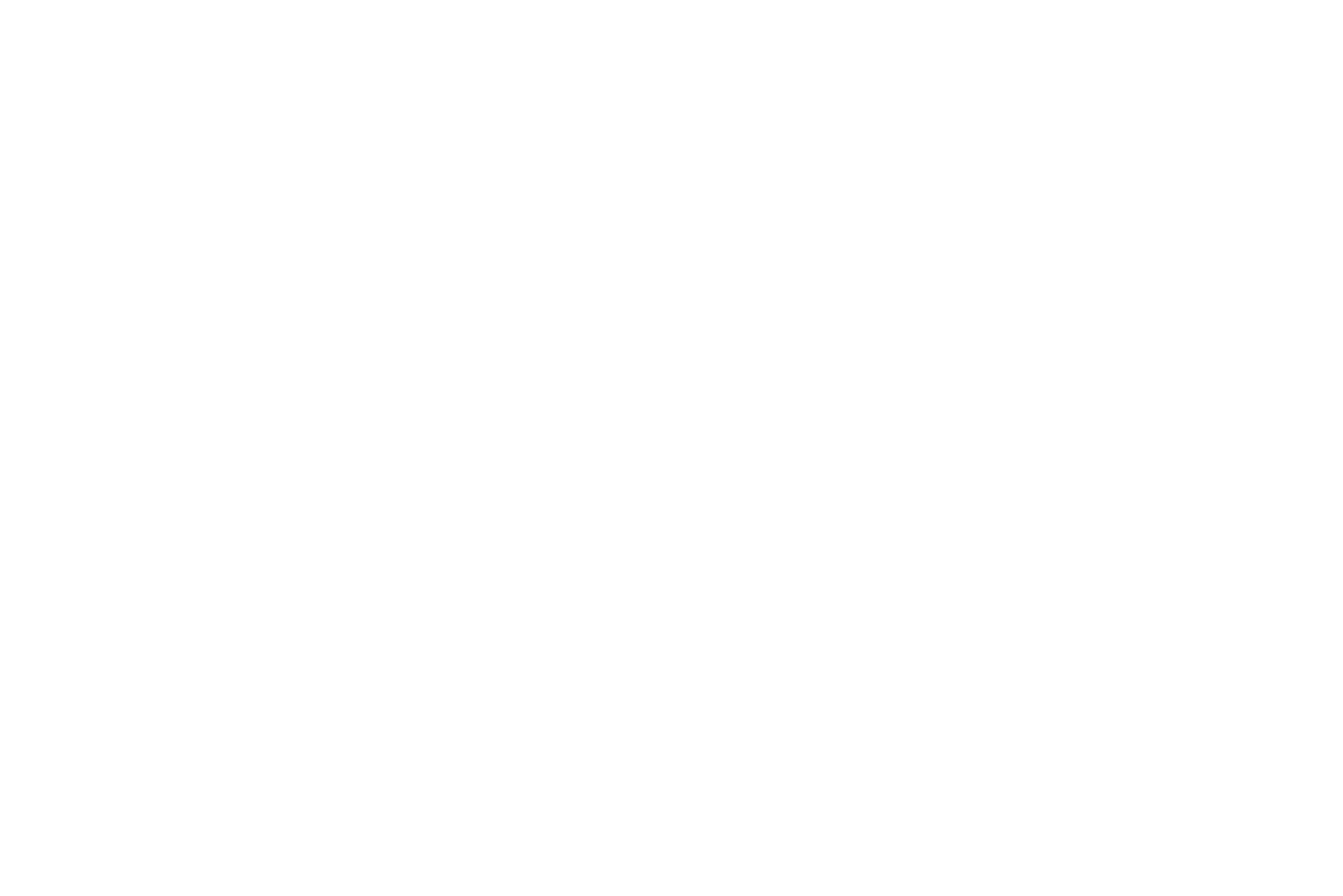
«Фишер» (2023)
Екатерина: В «Фишере» и «Черной весне» с героями происходит сильная трансформация. Они меняются из-за обстоятельств и той боли, с которой сталкиваются. Важно ли в кино освещать остросоциальные темы? Как не переступить черту между грамотной демонстрацией важной проблемы и самым обычным морализаторством?
Сергей: Здесь вопрос вкуса. Литературного вкуса и кинематографического. Насколько тебе позволяет твое ощущение искусства рассказать историю так, чтобы не стать учебником, который говорит, что так делать плохо, а так — хорошо. Любите тех, а вот этих — ненавидьте. Чтобы избежать этого, нужно быть немного тоньше и изобретательней.
Любовь: Читать книги, слушать хорошую музыку, смотреть фильмы.
Екатерина: Поговорим о сценах насилия. Каково было снимать «подвальную» часть? Как реагировали дети-подростки? Насколько сложно было создавать жуткие эпизоды?
Сергей: Знаете, когда мы прочли сценарий, Люба просто закричала.
Любовь: Я в восторге закричала: «Как это возможно!» В том смысле, что действительно очень смело написано. С восхищением.
Сергей: Да, было написано очень реалистично, жестко и страшно. Первое, о чем я подумал: «А как мы будем это снимать?»
Любовь: Съемки таких сцен всегда почему-то проходят очень смешно и весело. Не знаю почему.
Сергей: Там мы занимаемся совершенно другим, атмосфера съемочной площадки разрушает весь этот ужас. Ужас производственный перекрывает ужас происходящего, потому что у нас очень мало времени, чтобы отснять эпизод. Или у нас пластический грим почему-то виден в кадре, или еще какие-то технические вещи отвлекают от происходящего в кадре. Ты готов задействовать всех детей и снять это как можно быстрее и лучше — производственный ужас перекрывает.
Любовь: У нас ребята настолько профессиональные и талантливые актеры, что они могли быстро переключаться, входить в роль, а потом бегать и играть. Атмосфера была очень легкой на съемках на самом деле, что тоже помогало. Это одни из самых веселых в производственном плане сцен.
Сергей: На самом деле, если посмотреть со стороны, то выглядит это очень забавно: все мажут друг друга кровью, все ждут: «Давайте это снимем уже наконец!» Все говорят, что времени мало.
Любовь: Понятно, что когда мы как зрители смотрим это кино, то подключаемся. И когда мы придумывали с художником и оператором сцену, было страшно. А на съемках ты не можешь этого, естественно, испытывать, потому что у тебя чисто технические вопросы и проблемы существуют, которые тоже надо решать. Поэтому к таким сценам подходишь чисто технически — никакого ужаса абсолютно нет.
Сергей: Мы читаем книжки или всякие фильмы смотрим. О том, как Стэнли Кубрик мучает актрису в «Сиянии»: она делает по 30 дублей в ужасе, он добивается результата от ее кошмара. И она очень сильно переживает в этот момент. Это выглядит как истязание с точки зрения процесса съемки. У нас такого не было.
Любовь: Вообще, мы очень любим актеров, относимся к ним супер-нежно. Мы их оберегаем и готовы носить на руках.
Сергей: Процесс съемок, как бы труден он не был, мы его делаем максимально похожим на «елку», на «Ералаш», на карнавал. Поэтому у нас сразу после дубля все могут начать плясать, включить музыку.
Екатерина: Почему зритель выбирает более жестокое кино? И зачем такое кино снимать?
Сергей: Потому что жестокость существует. Невозможно снимать все время о том, как девушка полюбила мальчика, и у них все закончилось хорошо. Потому что в жизни истории бывают разные. Как бы мы не хотели, мир не может освободиться от жесткости, поэтому кинематограф, к сожалению, паразитирует на этом и зачастую использует эту данность, которая к нам свыше пришла.
Любовь: Почему на это есть спрос? Наверное, потому что жестокость отвлекает от каких-то внутренних бытовых проблем.
Сергей: Дело в том, что сейчас этот жанр, как показывает статистика, любят не только люди, которые находятся в очень трудных бытовых ситуациях — те, которые смотрят и думают: «А у них-то там вообще отрезают головы. Мне просто не хватает гречки, а им вообще плохо». Все хотят видеть кровь. Это интересный момент, но он кроется в глубинном.
Любовь: Да. Почему во всех сказках, например, много жестокости? Югославские возьми — там вообще присутствует расчлененка. Это глубины подсознания. И фильмы про маньяков, триллеры — они исходят изнутри, тут подложены подсознательные вещи.
Сергей: В основном все сказки имеют страшный окрас, а сказка — это основа драматургии всех народов. Они все очень кровавые. Это говорит о природе человека, в котором что-то жестокое заложено изначально.
Сергей: Здесь вопрос вкуса. Литературного вкуса и кинематографического. Насколько тебе позволяет твое ощущение искусства рассказать историю так, чтобы не стать учебником, который говорит, что так делать плохо, а так — хорошо. Любите тех, а вот этих — ненавидьте. Чтобы избежать этого, нужно быть немного тоньше и изобретательней.
Любовь: Читать книги, слушать хорошую музыку, смотреть фильмы.
Екатерина: Поговорим о сценах насилия. Каково было снимать «подвальную» часть? Как реагировали дети-подростки? Насколько сложно было создавать жуткие эпизоды?
Сергей: Знаете, когда мы прочли сценарий, Люба просто закричала.
Любовь: Я в восторге закричала: «Как это возможно!» В том смысле, что действительно очень смело написано. С восхищением.
Сергей: Да, было написано очень реалистично, жестко и страшно. Первое, о чем я подумал: «А как мы будем это снимать?»
Любовь: Съемки таких сцен всегда почему-то проходят очень смешно и весело. Не знаю почему.
Сергей: Там мы занимаемся совершенно другим, атмосфера съемочной площадки разрушает весь этот ужас. Ужас производственный перекрывает ужас происходящего, потому что у нас очень мало времени, чтобы отснять эпизод. Или у нас пластический грим почему-то виден в кадре, или еще какие-то технические вещи отвлекают от происходящего в кадре. Ты готов задействовать всех детей и снять это как можно быстрее и лучше — производственный ужас перекрывает.
Любовь: У нас ребята настолько профессиональные и талантливые актеры, что они могли быстро переключаться, входить в роль, а потом бегать и играть. Атмосфера была очень легкой на съемках на самом деле, что тоже помогало. Это одни из самых веселых в производственном плане сцен.
Сергей: На самом деле, если посмотреть со стороны, то выглядит это очень забавно: все мажут друг друга кровью, все ждут: «Давайте это снимем уже наконец!» Все говорят, что времени мало.
Любовь: Понятно, что когда мы как зрители смотрим это кино, то подключаемся. И когда мы придумывали с художником и оператором сцену, было страшно. А на съемках ты не можешь этого, естественно, испытывать, потому что у тебя чисто технические вопросы и проблемы существуют, которые тоже надо решать. Поэтому к таким сценам подходишь чисто технически — никакого ужаса абсолютно нет.
Сергей: Мы читаем книжки или всякие фильмы смотрим. О том, как Стэнли Кубрик мучает актрису в «Сиянии»: она делает по 30 дублей в ужасе, он добивается результата от ее кошмара. И она очень сильно переживает в этот момент. Это выглядит как истязание с точки зрения процесса съемки. У нас такого не было.
Любовь: Вообще, мы очень любим актеров, относимся к ним супер-нежно. Мы их оберегаем и готовы носить на руках.
Сергей: Процесс съемок, как бы труден он не был, мы его делаем максимально похожим на «елку», на «Ералаш», на карнавал. Поэтому у нас сразу после дубля все могут начать плясать, включить музыку.
Екатерина: Почему зритель выбирает более жестокое кино? И зачем такое кино снимать?
Сергей: Потому что жестокость существует. Невозможно снимать все время о том, как девушка полюбила мальчика, и у них все закончилось хорошо. Потому что в жизни истории бывают разные. Как бы мы не хотели, мир не может освободиться от жесткости, поэтому кинематограф, к сожалению, паразитирует на этом и зачастую использует эту данность, которая к нам свыше пришла.
Любовь: Почему на это есть спрос? Наверное, потому что жестокость отвлекает от каких-то внутренних бытовых проблем.
Сергей: Дело в том, что сейчас этот жанр, как показывает статистика, любят не только люди, которые находятся в очень трудных бытовых ситуациях — те, которые смотрят и думают: «А у них-то там вообще отрезают головы. Мне просто не хватает гречки, а им вообще плохо». Все хотят видеть кровь. Это интересный момент, но он кроется в глубинном.
Любовь: Да. Почему во всех сказках, например, много жестокости? Югославские возьми — там вообще присутствует расчлененка. Это глубины подсознания. И фильмы про маньяков, триллеры — они исходят изнутри, тут подложены подсознательные вещи.
Сергей: В основном все сказки имеют страшный окрас, а сказка — это основа драматургии всех народов. Они все очень кровавые. Это говорит о природе человека, в котором что-то жестокое заложено изначально.
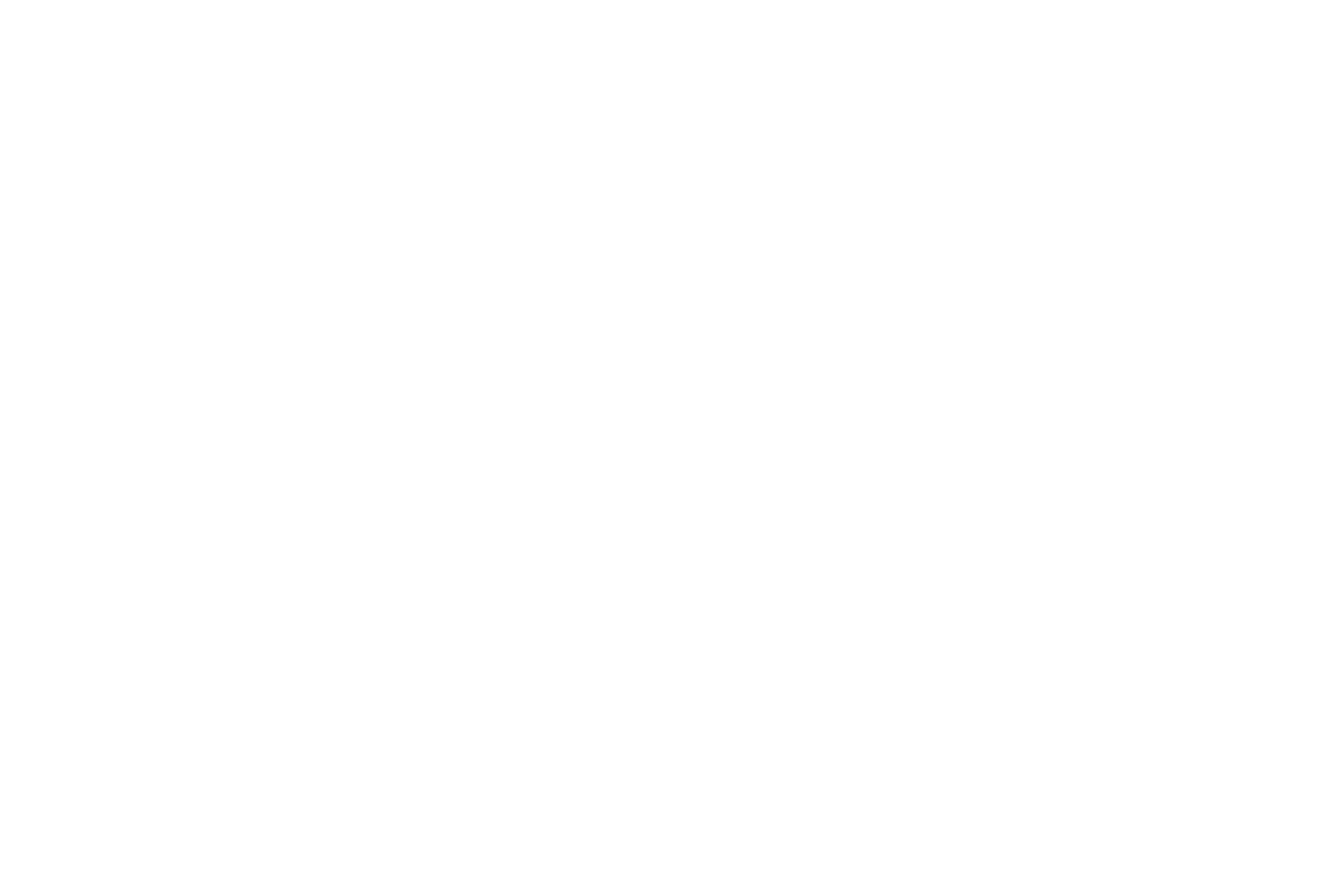
«Черная весна» (2022)
Екатерина: Пазолини, Ханеке, Висконти, Бертолуччи — они снимали кино о насилии, изучали природу этого явления. Как вы думаете, что изучаете вы в своих фильмах? Ради чего сняты ваши картины?
Любовь: Мы не снимаем про насилие. Я бы не сказала, что это наша тема: тема насилия, изучение насилия… У нас оно второстепенно.
Сергей: Если представить фильм, как коктейль, то насилие — не главный его ингредиент. Насилие, так как оно присутствует в жизни, оно неминуемо. И в наших сценариях тоже. И оно должно влиять на наших героев. И нам интересно, что с ними происходит в контакте с этим насилием: становятся ли они жестокими, как они противоборствуют ему, меняются ли они? У Бертолуччи в «Конформисте» присутствует насилие, но он изучает не его, а то, как человек адаптируется к насилию, как он изменяется и как принимает его. Нас «момент» самого насилия не интересует — тут достаточно однозначная структура. Нам важен человек, который противостоит этому, борется с этим.
Любовь: Все равно основная тема наших сценариев — тема невозможности. Невозможности вообще всего. Даже когда человеку кажется, что что-то приблизилось, и оно для него реально, на самом деле это — просто какой-то миг. Миг пройдет, и все опять отодвигается и становится невозможным. Жизнь человека как невозможность постичь то, что у него заложено. То, что у него в местах, то, с чем он родился и то, что он пытается выразить.
Сергей: В одном из интервью я как-то сказал (Люба над этим смеется и все время цитирует), что «сосиска стремится к идеальному». В результате она может превратиться в «сардельку» или остановится в развитии — смешается с окружающим ее «гарниром». Вот это стремление к идеальному — вот конфликт, который нам интересен. То есть человек рождается, он хочет увидеть идеальный мир и существовать в нем, но это невозможно. И вот здесь — точка, когда мы снимаем кино. Момент невозможности постижения этого идеального. Потому что мир абсолютно несовершенен и не готов дать тебе условия для постижения идеального. Он, наоборот, будет конфликтовать с этим ощущением, с этим стремлением, и будет стараться тебя пристроить к себе — к несовершенному, уродскому, скажем так, упыревскому миру.
Екатерина: Я слышала фразу, что любовь не спасет мир. Если бы она могла спасти, то давно бы это уже сделала. Но любовь может спасти человека. Как вы думаете, что может спасти людей от невозможности достичь невозможного?
Любовь: Ничего не может спасти, мне кажется.
Сергей: Вы знаете, иногда может спасти человек, который рядом. Человек человеку может помочь. В данном случае, мне — Люба. Мы же говорим про людей.
Что может вообще спасти человека от невозможности достичь совершенного?
Сергей: Не то что невозможного — идеального.
Любовь: Банально звучит, но это может быть дружба, как в «Черной весне». Любовь, которая и невозможна, но в какой-то момент она все равно случается и спасает, а потом, как в «Зимнем пути», невозможное разрушается. Она на какие-то секунды, может быть, спасает, но потом все равно приходит невозможное. Как у Чехова — у него нет абсолютно счастливых рассказов. Все его герои пытаются как бы жить, но у них почему-то в результате все равно не получается. Это чеховский мотив — у него тоже много чего есть про невозможность.
Сергей: Вопрос в том, сможем ли мы снять фильм, где дадим ответ на вопрос о том, что все-таки это возможно сделать невозможное?
Любовь: Мы не снимаем про насилие. Я бы не сказала, что это наша тема: тема насилия, изучение насилия… У нас оно второстепенно.
Сергей: Если представить фильм, как коктейль, то насилие — не главный его ингредиент. Насилие, так как оно присутствует в жизни, оно неминуемо. И в наших сценариях тоже. И оно должно влиять на наших героев. И нам интересно, что с ними происходит в контакте с этим насилием: становятся ли они жестокими, как они противоборствуют ему, меняются ли они? У Бертолуччи в «Конформисте» присутствует насилие, но он изучает не его, а то, как человек адаптируется к насилию, как он изменяется и как принимает его. Нас «момент» самого насилия не интересует — тут достаточно однозначная структура. Нам важен человек, который противостоит этому, борется с этим.
Любовь: Все равно основная тема наших сценариев — тема невозможности. Невозможности вообще всего. Даже когда человеку кажется, что что-то приблизилось, и оно для него реально, на самом деле это — просто какой-то миг. Миг пройдет, и все опять отодвигается и становится невозможным. Жизнь человека как невозможность постичь то, что у него заложено. То, что у него в местах, то, с чем он родился и то, что он пытается выразить.
Сергей: В одном из интервью я как-то сказал (Люба над этим смеется и все время цитирует), что «сосиска стремится к идеальному». В результате она может превратиться в «сардельку» или остановится в развитии — смешается с окружающим ее «гарниром». Вот это стремление к идеальному — вот конфликт, который нам интересен. То есть человек рождается, он хочет увидеть идеальный мир и существовать в нем, но это невозможно. И вот здесь — точка, когда мы снимаем кино. Момент невозможности постижения этого идеального. Потому что мир абсолютно несовершенен и не готов дать тебе условия для постижения идеального. Он, наоборот, будет конфликтовать с этим ощущением, с этим стремлением, и будет стараться тебя пристроить к себе — к несовершенному, уродскому, скажем так, упыревскому миру.
Екатерина: Я слышала фразу, что любовь не спасет мир. Если бы она могла спасти, то давно бы это уже сделала. Но любовь может спасти человека. Как вы думаете, что может спасти людей от невозможности достичь невозможного?
Любовь: Ничего не может спасти, мне кажется.
Сергей: Вы знаете, иногда может спасти человек, который рядом. Человек человеку может помочь. В данном случае, мне — Люба. Мы же говорим про людей.
Что может вообще спасти человека от невозможности достичь совершенного?
Сергей: Не то что невозможного — идеального.
Любовь: Банально звучит, но это может быть дружба, как в «Черной весне». Любовь, которая и невозможна, но в какой-то момент она все равно случается и спасает, а потом, как в «Зимнем пути», невозможное разрушается. Она на какие-то секунды, может быть, спасает, но потом все равно приходит невозможное. Как у Чехова — у него нет абсолютно счастливых рассказов. Все его герои пытаются как бы жить, но у них почему-то в результате все равно не получается. Это чеховский мотив — у него тоже много чего есть про невозможность.
Сергей: Вопрос в том, сможем ли мы снять фильм, где дадим ответ на вопрос о том, что все-таки это возможно сделать невозможное?
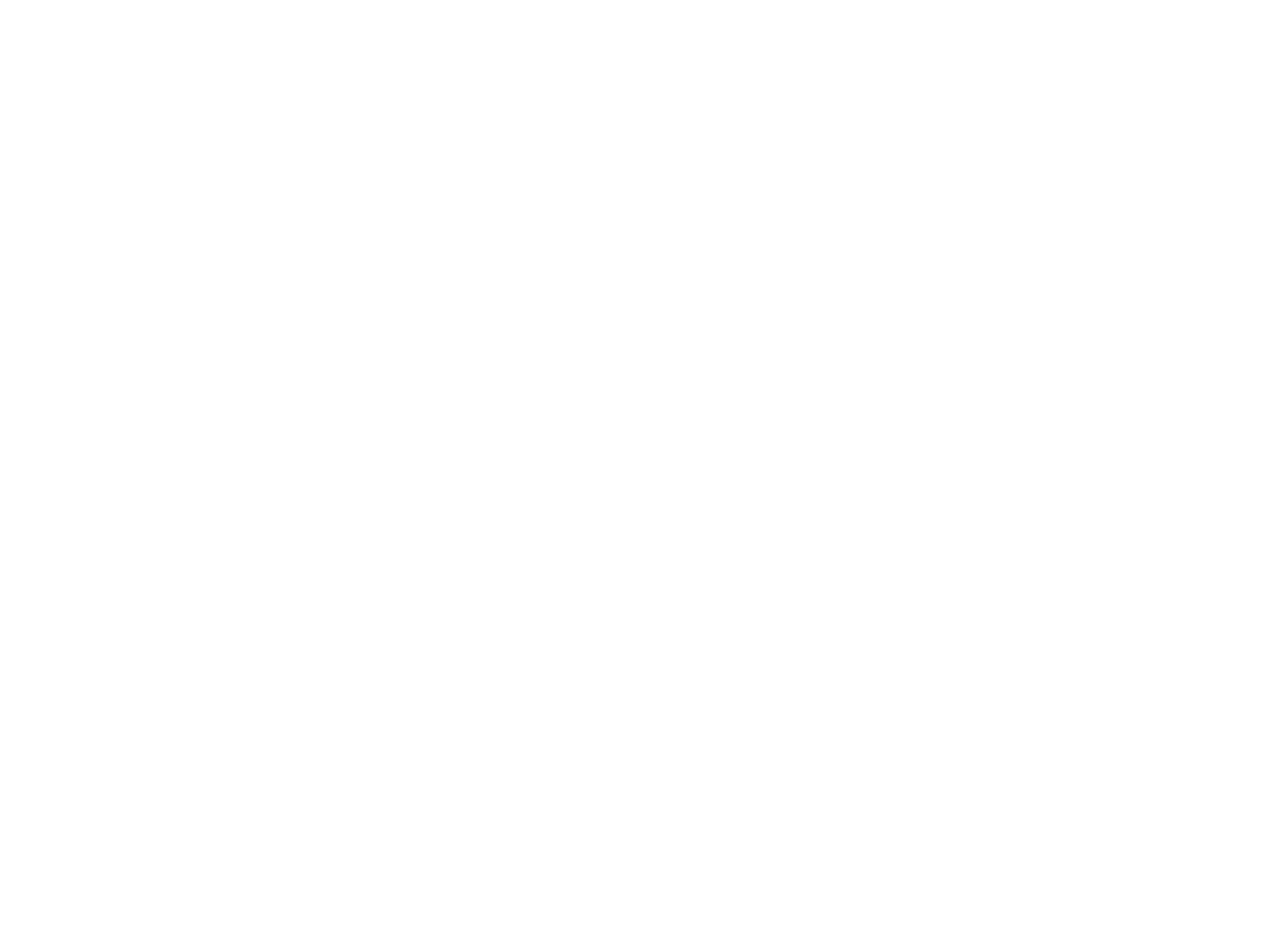
«Метаморфозис» (2015)
Екатерина: Что может спасти человека? Что может предотвратить безысходность?
Сергей: Вы говорите так, будто я Лев Толстой, а Люба, как минимум, Зинаида Гиппиус или Марина Цветаева. Нет. За нами тысячи, миллионы людей великих, которые не смогли ничего сказать на эту тему. Они просто задавали вопросы. И наша задача — тоже просто задать вопрос. А ответа нет. В этом и вся фигня. Нет, конечно, если человек идет не путем кинематографа, отвечать на эти вопросы — он найдет ответы, но в совершенно других местах, в плоскости других институтов. Мы задаем вопросы, ответов нет.
Екатерина: Какие это могут быть вопросы? Какие вопросы задаете вы?
Сергей: То, о чем вы как раз и говорили: возможно ли идеальное? Возможно ли оно? Как существовать, когда мир не соответствует иделу? Как не изменить себе, но вроде бы прожить свою коротенькую жизнь, сделав набор телодвижений, но при этом что-то узнать, почувствовать, обрести? Это и есть вопросы. Наш Гена в «Черной весне», смешной персонаж, которого играет Никита Кологривый, а еще Киса, Мел, Хэнк — они тоже все говорят об этом. Поставлю себя на их место: допустим, мне 18 или мне 23, как Гене, — и как с этим быть? Я хочу ощущать жизнь, как-то ей радоваться, не терять ощущения радости, которое я помню из времен, когда был маленьким. Почему мне нужно двигаться в какую-то ячейку общества? Занимать, достигать, делать много вещей, которые умерщвляют само ощущение жизни?
Любовь: Это один из вопросов. В «Зимнем пути» немного другое.
Сергей: Понятно, что здесь градаций — миллионы. Потому что у каждого свое представление о счастье.
Любовь: И об идеальном.
Сергей: Кому-то нужен, как в «Зимнем пути», друг такого же пола, и он обречен. У Мела в «Черной весне» есть ощущение идеальной любви, но она тоже рассыпается. В «Метаморфозисе» у нашего пианиста, аутичного, тоже все такое есть — он не знает жизни, он как бы видит мир через музыку. Есть у него ощущение родственной души, которую он не может найти. Историй — миллионы. Сколько людей, столько и историй. У каждого она будет. И поэтому рецепта нет. Искусство бесконечно будет моделировать эти сюжеты.
Любовь: Это вопросы, на которые и правда нет ответов. Каждый находит ответ в себе. Или вообще не находит.
Сергей: С точки зрения искусства, это, конечно, замечательно. Оно обречено на бесконечную работу, потому что здесь нет ответов. Человеку помочь невозможно.
Любовь: Помочь возможно, когда человек сострадает герою и себя с ним ассоциирует. Это ему помогает. Мне очень помогало в детстве, когда я видела какой-то фильм и сравнивала себя с героями. Это дает надежду, помощь, а не то, что вот, какой-то конкретный ответ тебе принесли и положили.
Сергей: Нет, глобально, именно глобально, искусство не может помочь человеку. Оно может найти в нем друга, соратника, существо, с которым ты одинаково ощущаешь мир. Но ответ дается в других институтах, не в искусстве. Главная функция, искусства — помогать таким же, как ты. Если у тебя намерения чисты — то помогать.
Редактор: Сергей Чацкий
Сергей: Вы говорите так, будто я Лев Толстой, а Люба, как минимум, Зинаида Гиппиус или Марина Цветаева. Нет. За нами тысячи, миллионы людей великих, которые не смогли ничего сказать на эту тему. Они просто задавали вопросы. И наша задача — тоже просто задать вопрос. А ответа нет. В этом и вся фигня. Нет, конечно, если человек идет не путем кинематографа, отвечать на эти вопросы — он найдет ответы, но в совершенно других местах, в плоскости других институтов. Мы задаем вопросы, ответов нет.
Екатерина: Какие это могут быть вопросы? Какие вопросы задаете вы?
Сергей: То, о чем вы как раз и говорили: возможно ли идеальное? Возможно ли оно? Как существовать, когда мир не соответствует иделу? Как не изменить себе, но вроде бы прожить свою коротенькую жизнь, сделав набор телодвижений, но при этом что-то узнать, почувствовать, обрести? Это и есть вопросы. Наш Гена в «Черной весне», смешной персонаж, которого играет Никита Кологривый, а еще Киса, Мел, Хэнк — они тоже все говорят об этом. Поставлю себя на их место: допустим, мне 18 или мне 23, как Гене, — и как с этим быть? Я хочу ощущать жизнь, как-то ей радоваться, не терять ощущения радости, которое я помню из времен, когда был маленьким. Почему мне нужно двигаться в какую-то ячейку общества? Занимать, достигать, делать много вещей, которые умерщвляют само ощущение жизни?
Любовь: Это один из вопросов. В «Зимнем пути» немного другое.
Сергей: Понятно, что здесь градаций — миллионы. Потому что у каждого свое представление о счастье.
Любовь: И об идеальном.
Сергей: Кому-то нужен, как в «Зимнем пути», друг такого же пола, и он обречен. У Мела в «Черной весне» есть ощущение идеальной любви, но она тоже рассыпается. В «Метаморфозисе» у нашего пианиста, аутичного, тоже все такое есть — он не знает жизни, он как бы видит мир через музыку. Есть у него ощущение родственной души, которую он не может найти. Историй — миллионы. Сколько людей, столько и историй. У каждого она будет. И поэтому рецепта нет. Искусство бесконечно будет моделировать эти сюжеты.
Любовь: Это вопросы, на которые и правда нет ответов. Каждый находит ответ в себе. Или вообще не находит.
Сергей: С точки зрения искусства, это, конечно, замечательно. Оно обречено на бесконечную работу, потому что здесь нет ответов. Человеку помочь невозможно.
Любовь: Помочь возможно, когда человек сострадает герою и себя с ним ассоциирует. Это ему помогает. Мне очень помогало в детстве, когда я видела какой-то фильм и сравнивала себя с героями. Это дает надежду, помощь, а не то, что вот, какой-то конкретный ответ тебе принесли и положили.
Сергей: Нет, глобально, именно глобально, искусство не может помочь человеку. Оно может найти в нем друга, соратника, существо, с которым ты одинаково ощущаешь мир. Но ответ дается в других институтах, не в искусстве. Главная функция, искусства — помогать таким же, как ты. Если у тебя намерения чисты — то помогать.
Редактор: Сергей Чацкий
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.