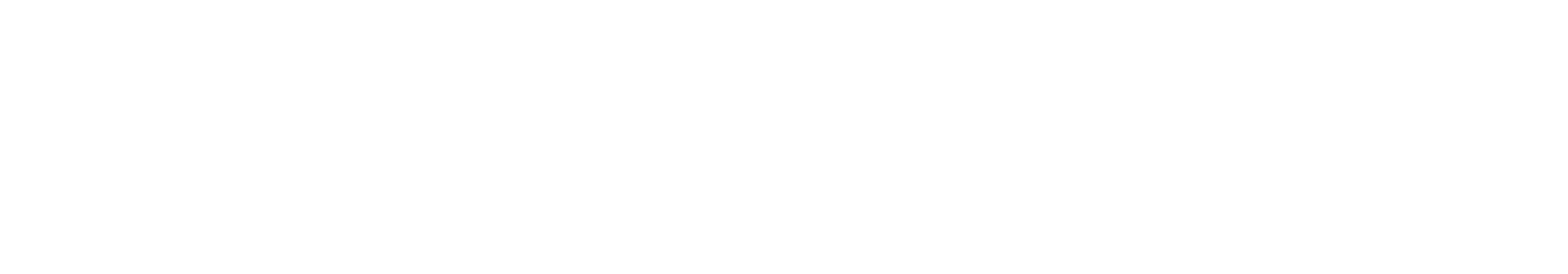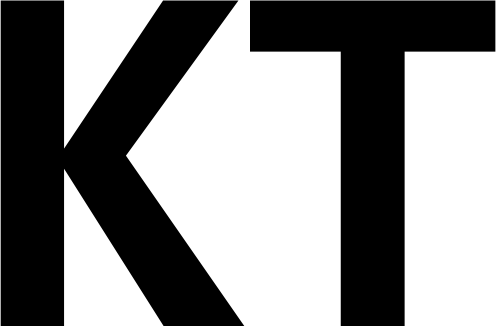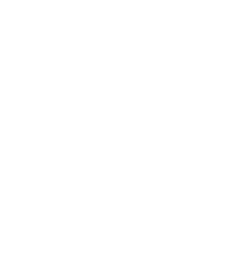АНДРЕЙ ВОЛКОВ | 19 НОЯБРЯ 2023
СТАРОЕ И НОВОЕ: ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПОЭМА
Малоизвестный фильм советского классика, поэтизирующий технологический прогресс в сельском хозяйстве
СТАРОЕ И НОВОЕ: ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПОЭМА
АНДРЕЙ ВОЛКОВ | 19.11.2023
Малоизвестный фильм советского классика, поэтизирующий технологический прогресс в сельском хозяйстве
СТАРОЕ И НОВОЕ: ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПОЭМА
АНДРЕЙ ВОЛКОВ | 19.11.2023
Малоизвестный фильм советского классика, поэтизирующий технологический прогресс в сельском хозяйстве
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Режиссеры: Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров
Страна: СССР
Год: 1929
Фильм «Старое и новое» (он же «Генеральная линия») 1929-го года — не самая известная работа Сергея Эйзенштейна. По неведомой причине эта лента затерялась в не такой уж обширной фильмографии советского классика, так что число текстов, посвященных анализу четвертого полнометражного фильма мастера, очень невелико. Однако, будучи созданным на излете относительно свободных 1920-х, перед самым наступлением «сталинских заморозков», «Старое и новое» явилось итоговым произведением Эйзенштейна, вобрав в себя формальные эксперименты его «революционной трилогии» («Стачка», «Броненосец "Потемкин"», «Октябрь»). Несмотря на типично советский (и даже агитационный) сюжет, этот фильм Эйзенштейна вышел наиболее вестернизированным, можно сказать, модернистским, вполне отвечающим мировой тенденции развития искусства тех лет. В нем постановщик ведет диалог как с французским авангардом, так и с немецким артхаусом. «Старое и новое» вполне отвечало экспериментам не только западных мастеров экрана, от Луи Деллюка до Вальтера Руттмана, но и таких классиков литературы модернизма, как Марсель Пруст и Джеймс Джойс. В 1920-е в недрах советского государства еще существовала творческая свобода, но по мере концентрации власти в одних руках пространство для маневров сужалось, а вскоре наступит время, когда ни один фильм не сможет быть выпущен без одобрения Партии и лично товарища Сталина.
Страна: СССР
Год: 1929
Фильм «Старое и новое» (он же «Генеральная линия») 1929-го года — не самая известная работа Сергея Эйзенштейна. По неведомой причине эта лента затерялась в не такой уж обширной фильмографии советского классика, так что число текстов, посвященных анализу четвертого полнометражного фильма мастера, очень невелико. Однако, будучи созданным на излете относительно свободных 1920-х, перед самым наступлением «сталинских заморозков», «Старое и новое» явилось итоговым произведением Эйзенштейна, вобрав в себя формальные эксперименты его «революционной трилогии» («Стачка», «Броненосец "Потемкин"», «Октябрь»). Несмотря на типично советский (и даже агитационный) сюжет, этот фильм Эйзенштейна вышел наиболее вестернизированным, можно сказать, модернистским, вполне отвечающим мировой тенденции развития искусства тех лет. В нем постановщик ведет диалог как с французским авангардом, так и с немецким артхаусом. «Старое и новое» вполне отвечало экспериментам не только западных мастеров экрана, от Луи Деллюка до Вальтера Руттмана, но и таких классиков литературы модернизма, как Марсель Пруст и Джеймс Джойс. В 1920-е в недрах советского государства еще существовала творческая свобода, но по мере концентрации власти в одних руках пространство для маневров сужалось, а вскоре наступит время, когда ни один фильм не сможет быть выпущен без одобрения Партии и лично товарища Сталина.
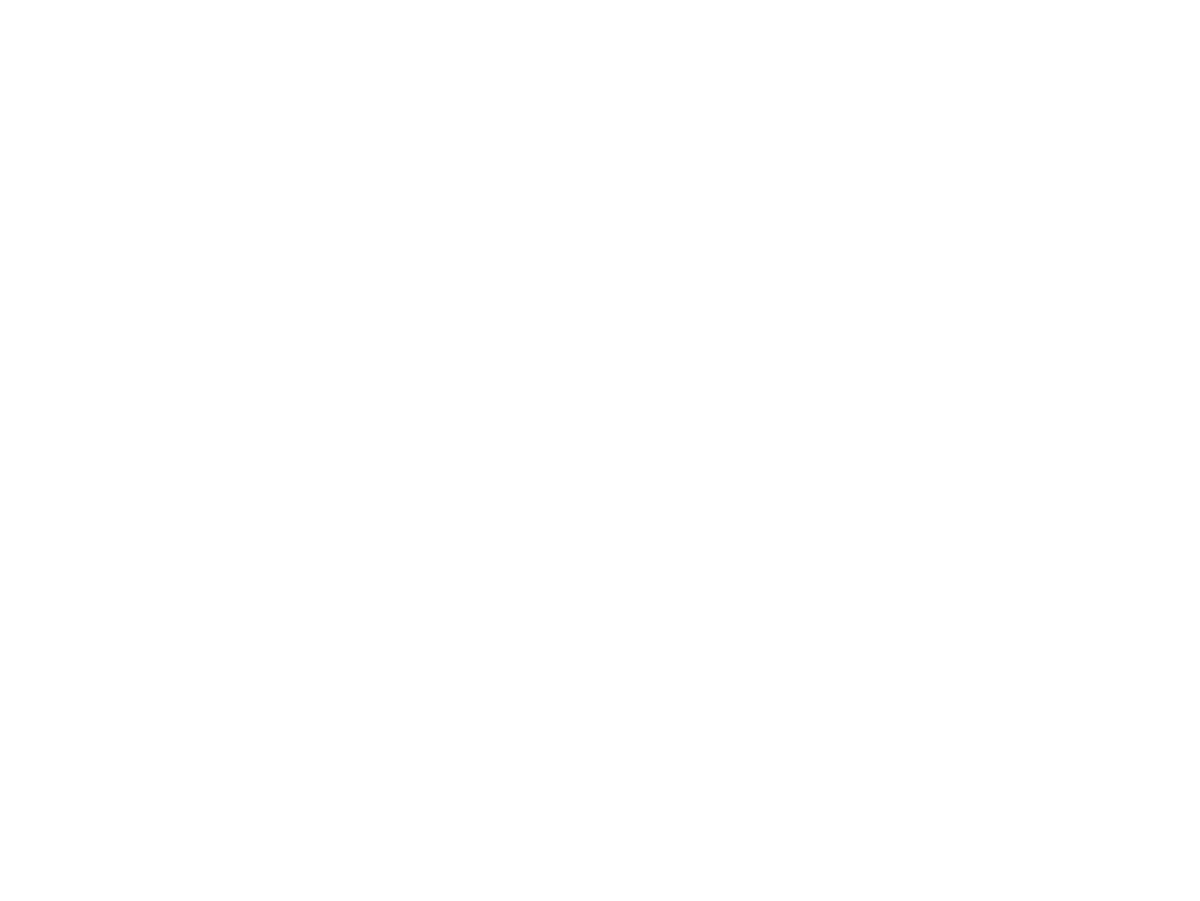
Как уже говорилось, последний немой фильм Эйзенштейна «Старое и новое» находится в тесном единстве с его «революционной трилогией». Все четыре фильма на практике реализуют «монтаж аттракционов» — метод, с которым имя режиссера ассоциируется в первую очередь. Стоит сказать, что на это детище Эйзенштейна, первоначально разработанное для театра, определенное влияние оказал «киноглаз» Дзиги Вертова, так что задача развести собственные кинематографические идеи Эйзенштейна от позаимствованных у Вертова — не по силам рецензии. Тут нужна как минимум исследовательская статья. Важную попытку проследить влияние Вертова на монтажный метод Эйзенштейна сделал культуролог Андрей Щербенок в нескольких статьях, посвященных теории «киноглаза» Дзиги Вертова, рассмотренной в контексте советской экранной культуры.
Для самого Сергея Михайловича «монтаж аттракционов» был не столько кинематографическим методом, сколько концептом. В 1930-е на занятиях со студентами ВГИКа режиссер объяснял его смысл на примере живописи, видел его также в литературных произведениях и находил в наскальных рисунках. Можно сказать, что, по мысли Эйзенштейна, «монтаж аттракционов» — это что-то междисциплинарное: то, что существовало всегда и проявляло себя в разных искусствах. Неудивительно, что, перейдя от театра к кино, Эйзенштейн увидел пример «монтажа аттракционов» в теории «киноглаза» Дзиги Вертова или, точнее, понял, при помощи каких кинематографических средств его можно воплотить.
Эйзенштейн, хоть и опубликовал статью «Монтаж аттракционов» в журнале футуристов «ЛЕФ», никогда не рассматривал аттракцион в цирковом смысле (именно так футуристы воображали новый театр, который пропагандировали на страницах издания). Для Эйзенштейна аттракционом мог служить любой эпизод, который способен воздействовать на чувства зрителя, а монтаж таких эпизодов сродни саспенсу Альфреда Хичкока. «Монтаж аттракционов» преследовал цель постоянно держать зрителя в напряжении, вызывая в нем тщательно запрограммированные эмоции.
Общеизвестно, что Дзига Вертов не признавал игровое кино и создавал советский авангард из монтажа реальных событий. Но он также стремился воздействовать на чувства зрителя при помощи тщательно отобранных кадров реального мира, мира контрастов, где на равных существуют черное и белое, высокое и низкое, зло и добро. Интересно проследить влияние, которое оказывал на Эйзенштейна Вертов, на примере образа быка. В фильме «Киноглаз» режиссер, применяя обратный монтаж, показывает доминирование человека в окружающем мире, большие возможности созданной им техники (кинокамеры). На глазах изумленного зрителя бык оживает и возвращается в стойло, дабы, спустя какое-то время, опять послужить человеку. Эйзенштейн в «Стачке» метафорически сопоставляет с убийством быка силовое подавление стачки. За увлечение кровавыми эффектами Эйзенштейн подвергается критике (в том числе в статье Вертова «Нужна ли кровь на экране»). Возможно, поэтому в «Старом и новом» Эйзенштейн иначе представляет зрителю образ быка, приспосабливая его под основную идею фильма. При помощи многократной экспозиции показанный на фоне неба бык предстает символом будущего колхоза, ведь чтобы в артели было много молока, нужно больше коров. Эйзенштейн поэтически изображает «знакомство» быка с очередной коровой, наряжая зверушку как невесту (эта часть фильма и называется «Невеста»), лишая этот эпизод неприличных аналогий с животной случкой.
Для самого Сергея Михайловича «монтаж аттракционов» был не столько кинематографическим методом, сколько концептом. В 1930-е на занятиях со студентами ВГИКа режиссер объяснял его смысл на примере живописи, видел его также в литературных произведениях и находил в наскальных рисунках. Можно сказать, что, по мысли Эйзенштейна, «монтаж аттракционов» — это что-то междисциплинарное: то, что существовало всегда и проявляло себя в разных искусствах. Неудивительно, что, перейдя от театра к кино, Эйзенштейн увидел пример «монтажа аттракционов» в теории «киноглаза» Дзиги Вертова или, точнее, понял, при помощи каких кинематографических средств его можно воплотить.
Эйзенштейн, хоть и опубликовал статью «Монтаж аттракционов» в журнале футуристов «ЛЕФ», никогда не рассматривал аттракцион в цирковом смысле (именно так футуристы воображали новый театр, который пропагандировали на страницах издания). Для Эйзенштейна аттракционом мог служить любой эпизод, который способен воздействовать на чувства зрителя, а монтаж таких эпизодов сродни саспенсу Альфреда Хичкока. «Монтаж аттракционов» преследовал цель постоянно держать зрителя в напряжении, вызывая в нем тщательно запрограммированные эмоции.
Общеизвестно, что Дзига Вертов не признавал игровое кино и создавал советский авангард из монтажа реальных событий. Но он также стремился воздействовать на чувства зрителя при помощи тщательно отобранных кадров реального мира, мира контрастов, где на равных существуют черное и белое, высокое и низкое, зло и добро. Интересно проследить влияние, которое оказывал на Эйзенштейна Вертов, на примере образа быка. В фильме «Киноглаз» режиссер, применяя обратный монтаж, показывает доминирование человека в окружающем мире, большие возможности созданной им техники (кинокамеры). На глазах изумленного зрителя бык оживает и возвращается в стойло, дабы, спустя какое-то время, опять послужить человеку. Эйзенштейн в «Стачке» метафорически сопоставляет с убийством быка силовое подавление стачки. За увлечение кровавыми эффектами Эйзенштейн подвергается критике (в том числе в статье Вертова «Нужна ли кровь на экране»). Возможно, поэтому в «Старом и новом» Эйзенштейн иначе представляет зрителю образ быка, приспосабливая его под основную идею фильма. При помощи многократной экспозиции показанный на фоне неба бык предстает символом будущего колхоза, ведь чтобы в артели было много молока, нужно больше коров. Эйзенштейн поэтически изображает «знакомство» быка с очередной коровой, наряжая зверушку как невесту (эта часть фильма и называется «Невеста»), лишая этот эпизод неприличных аналогий с животной случкой.
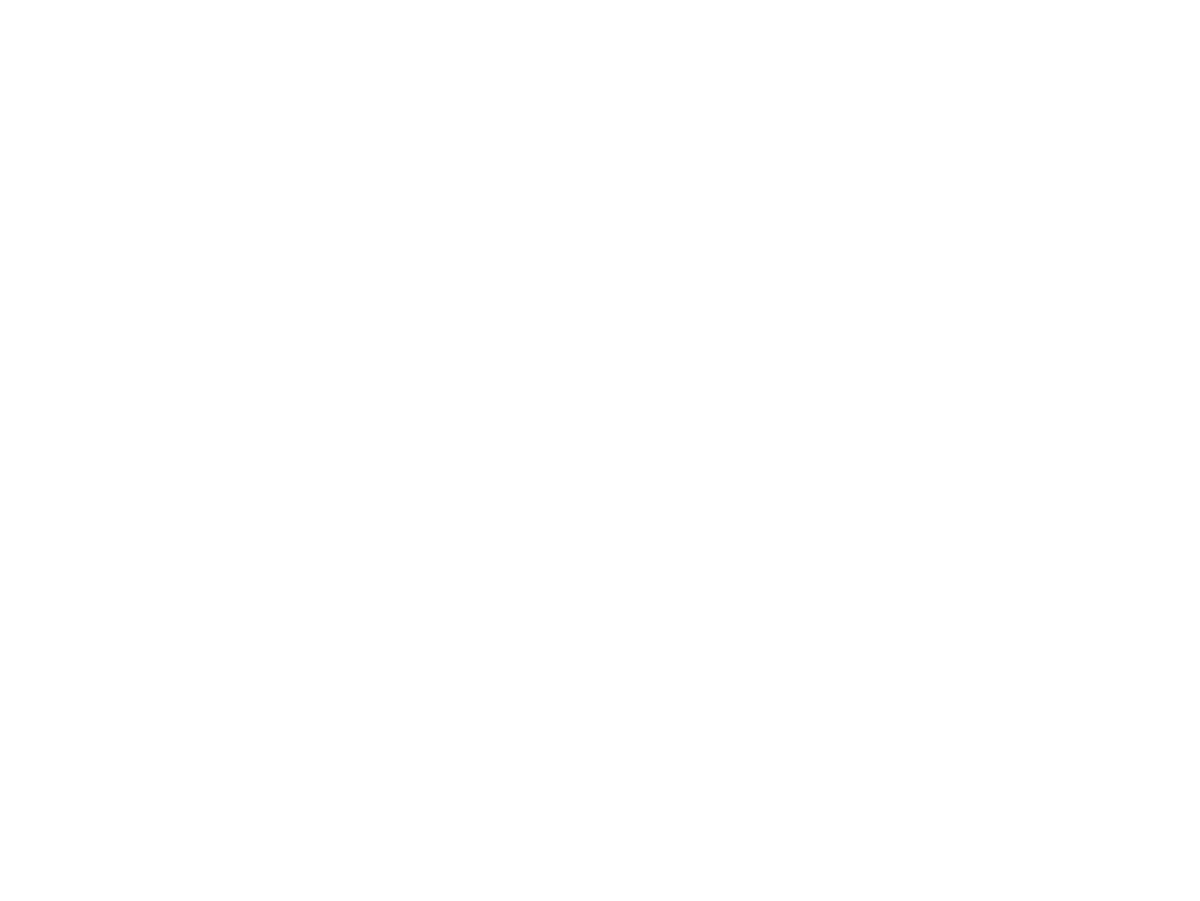
В 1925 году, на волне общественных дискуссий о сходстве киноглаза и монтажного метода Эйзенштейна (в них принимал участие один из первых советских кинокритиков Хрисанф Херсонский), Дзига Вертов в статье «Кино Глаз о "Стачке"» не без удовольствия отмечал, что «художественная кинематография победоносно отступает. Одним из блестящих этапов ее отступления перед натиском идеи "Кино Глаза" является выпуск картины "Стачка"». В вину Эйзенштейну Вертов ставил то, что его молодой «ученик», только-только пришедший из театра Пролеткульта, перенося стилистику «киноглаза» в игровое кино, искусственно продлевает ему жизнь. Сам Сергей Михайлович, с одной стороны, признавал некоторое влияние Вертова в ранний период, с другой же, неизменно указывал на принципиальные отличия, критикуя идеи советского документалиста. «Не киноглаз нам нужен, а кинокулак», — самое знаменитое высказывание Эйзенштейна.
Дзига Вертов также послужил предшественником Эйзенштейна (и, возможно, вдохновителем) в плане попыток создания визуальной музыки. Режиссер-документалист Эсфирь Шуб вспоминала, что Вертов всегда тщательно работал с дирижерами и музыкальными оформителями, дабы звуковой ряд находился в полном единении с изображением, с «монтажной музыкой» его фильмов. Предшественниками экспериментов Эйзенштейна в «Старом и новом» в области синтеза изображения и симфонии также являлись немецкие авангардисты — Викинг Эггелинг («Диагональная симфония») и Вальтер Руттман («Берлин — симфония большого города»). В будущем советский постановщик продолжит эксперименты по синтезу кино и музыки (режиссер полагал, что художественное кино родственно музыке, оттого много рассуждал в статьях о «музыке пластики» и «музыке света») и добьется больших успехов в своих звуковых фильмах. Пока же «Старым и новым» остался недоволен главный цензор советского искусства Сталин, по указанию которого фильм Эйзенштейна, изначально названный «Генеральной линией», был переименован.
До первого Всесоюзного съезда советских писателей, где окончательно был утвержден соцреализм в качестве единственно верного художественного направления, было еще далеко, однако критика и фактический запрет в 1930 году ленты Эйзенштейна уже свидетельствовали о том, что с экспериментами на советском экране отныне покончено. Или снимай, как велит Партия, или молчи.
Словно предчувствуя дальнейшую судьбу авангардного течения в тоталитарном государстве, Эйзенштейн сполна отдал себя стихии формотворчества, следствием чего стал весьма размытый сюжет «Старого и нового». Четко выписанных главных героев в фильме Сергея Михайловича нет, также отсутствуют какие-либо конфликты между персонажами, и даже дремучие крестьяне лишь дивятся, наблюдая появление в их деревне чудо-механизмов, вроде сепаратора и трактора, но никак не препятствуют внедрению в их крестьянский быт индустриализации. В продолжившем деревенскую тему «Бежине луге» режиссер, пользуясь экспрессионистскими приемами как в области драматургии, так и в освещении (судя по фотофильму, постановщик широко использовал контровый свет), показывал тяжелый конфликт между поколением отцов, не принимающих коллективизацию, и детей-пионеров. В «Старом и новом» даже линия романа главной героини Марфы Лапкиной и тракториста утрачивает самостоятельное значение, ведь в новое время важна не столько любовь, сколько победа механизации над устаревшим крестьянским бытом (старым миром).
Дзига Вертов также послужил предшественником Эйзенштейна (и, возможно, вдохновителем) в плане попыток создания визуальной музыки. Режиссер-документалист Эсфирь Шуб вспоминала, что Вертов всегда тщательно работал с дирижерами и музыкальными оформителями, дабы звуковой ряд находился в полном единении с изображением, с «монтажной музыкой» его фильмов. Предшественниками экспериментов Эйзенштейна в «Старом и новом» в области синтеза изображения и симфонии также являлись немецкие авангардисты — Викинг Эггелинг («Диагональная симфония») и Вальтер Руттман («Берлин — симфония большого города»). В будущем советский постановщик продолжит эксперименты по синтезу кино и музыки (режиссер полагал, что художественное кино родственно музыке, оттого много рассуждал в статьях о «музыке пластики» и «музыке света») и добьется больших успехов в своих звуковых фильмах. Пока же «Старым и новым» остался недоволен главный цензор советского искусства Сталин, по указанию которого фильм Эйзенштейна, изначально названный «Генеральной линией», был переименован.
До первого Всесоюзного съезда советских писателей, где окончательно был утвержден соцреализм в качестве единственно верного художественного направления, было еще далеко, однако критика и фактический запрет в 1930 году ленты Эйзенштейна уже свидетельствовали о том, что с экспериментами на советском экране отныне покончено. Или снимай, как велит Партия, или молчи.
Словно предчувствуя дальнейшую судьбу авангардного течения в тоталитарном государстве, Эйзенштейн сполна отдал себя стихии формотворчества, следствием чего стал весьма размытый сюжет «Старого и нового». Четко выписанных главных героев в фильме Сергея Михайловича нет, также отсутствуют какие-либо конфликты между персонажами, и даже дремучие крестьяне лишь дивятся, наблюдая появление в их деревне чудо-механизмов, вроде сепаратора и трактора, но никак не препятствуют внедрению в их крестьянский быт индустриализации. В продолжившем деревенскую тему «Бежине луге» режиссер, пользуясь экспрессионистскими приемами как в области драматургии, так и в освещении (судя по фотофильму, постановщик широко использовал контровый свет), показывал тяжелый конфликт между поколением отцов, не принимающих коллективизацию, и детей-пионеров. В «Старом и новом» даже линия романа главной героини Марфы Лапкиной и тракториста утрачивает самостоятельное значение, ведь в новое время важна не столько любовь, сколько победа механизации над устаревшим крестьянским бытом (старым миром).
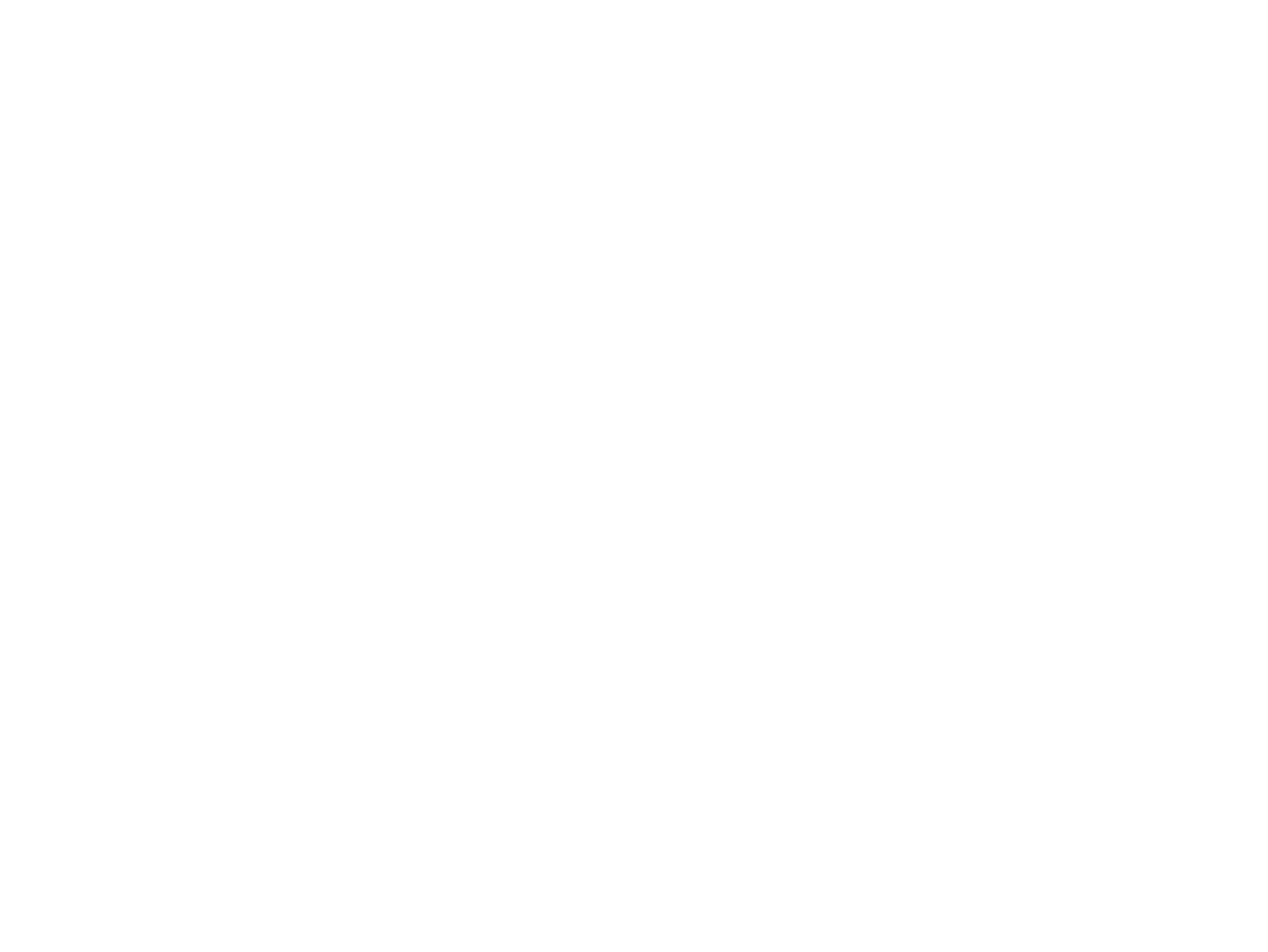
Сергей Эйзенштейн восходил от частного к общему. Не вдаваясь в детали индивидуальных судеб крестьян, режиссер представил коллективный портрет их жизни периода слома эпох. Словно в будущем неореализме, действие в «Старом и новом» происходит здесь и сейчас, конкретно в 1929 году, когда деревенский труд, с одной стороны, механизировался, а с другой — становился коллективным. В соответствии с учением Партии, важен не отдельный человек, трудящийся для собственного обогащения, а коллектив — артель или колхоз. Название, предложенное Сталиным, лучше передает дихотомию времени, в которое жил и творил Эйзенштейн и которое он стремился отобразить в своей ленте. Внешний, сюжетный фон «Старого и нового» посвящен победе коллективизации над темной, отсталой, погруженной в суеверия деревней, где крестьяне участвуют в молебнах о дожде, словно первобытные люди. В основных ролях режиссер задействовал непрофессиональных актеров, как бы предвосхищая будущую тенденцию неореализма и продолжая линию «Октября», в котором революционеры играли самих себя. Однако, если неореалистическая поэтика середины столетия во многом повторяла типичную для литературы XIX века тему маленького человека, то в «Старом и новом» режиссер сталкивает не столько героев в неизбежном конфликте поколений, сколько размышляет о временах, сменяющих друг друга.
Если вышедший из казаков самородок Михаил Шолохов критиковал коллективизацию (в том числе в письмах Сталину), то Эйзенштейн воспринял ее в ином ключе — как торжество прогресса над отсталостью, цивилизации над архаикой. Он не рассматривал процесс коллективизации как насилие над деревней (в полной мере обличение насильственного переустройства деревни проявится в произведениях писателей-деревенщиков). Наоборот, «Старое и новое» роднит с «революционной трилогией» Эйзенштейна романтическая вера автора в близкое наступление «светлого будущего».
В «Старом и новом» Эйзенштейн впервые касается не недавнего прошлого, а актуальных для конца 1920-х (то есть периода съемок фильма) процессов — индустриализации и коллективизации. Режиссер в сатирических красках изображает темных невежественных крестьян, не понимающих, зачем нужна какая-то артель. «Деды жили так столетиями, и мы так же делать будем», — считали они. Однако от крестьянской среды уже отделяется молодежь, которая тянется осваивать трактора, получать образование и внедрять передовые технологии в сельское хозяйство. Этой массе открытых будущему героев Эйзенштейн противопоставляет заросших бородами, карикатурных стариков, выглядящих в индустриальном XX веке, словно пережитки крепостничества. Про этих крестьян не скажешь, что они коллектив, но лишь масса — темная, инертная, способная, по мысли режиссера, только чинить препятствия наступлению прогресса.
Сатирические образы крестьянских лиц, противящихся будущему, режиссер перенесет в «Бежин луг», где противодействие прогрессу приведет к убийству. Пока же живущие прошлым крестьяне недоуменно наблюдают за торжеством инженерной мысли, облегчающей (а где-то и вовсе устраняющей) человеческий труд. Режиссер крупным планом показывает работу машин, поэтически сравнивает движение молока внутри механизма с фонтанами и реками. Сергей Эйзенштейн разрабатывал теорию монтажа звуко-зрительных образов еще в период «революционной трилогии», однако теоретически обосновал лишь в поздние годы, в серии статей, посвященных так называемому «вертикальному монтажу». Там он писал, что «"высшее единство", в которое мы способны объединить отдельные звуки звукоряда, нам совершенно ясно рисуется линией, объединяющей их своим движением. Но и сама тональная разница их тоже характеризуется опять-таки движением».
Антиклерикальная тема, свойственная революционным фильмам Эйзенштейна (особенно «Октябрю»), в «Старом и новом» достигает особой силы. Для молебнов, крестных ходов, праздных священников и верящих им крестьян режиссер не находит иных красок, кроме гротеска. Некрасивые лица сельчан, удушенных крепостническим самодержавием, вызывают даже не жалость, а почти отвращение. Особенно поражает сцена, в которой люди в рабской покорности падают на землю, смиряя себя перед богом, до изнеможения крестятся и твердят молитвы в суеверной надежде, что творец пошлет им дождь, вместо того, чтобы при помощи передовых технологий обрести независимость от погодных условий. В серии статей «Вертикальный монтаж» режиссер вернулся к «Старому и новому», представив в виде схемы эпизод крестного хода. Словно в музыкальном произведении, Эйзенштейн называет партиями серии кадров. Одни изображают участвующих в религиозном действе мужчин, другие — женщин. Крупным планом режиссер показывает «партию нарастающего упоения религиозным изуверством», и над всем этим стоит главная монтажная линия эпизода — партия жары, в которую заключен основной сатирический элемент. Мучающиеся от жары крестьяне падают ниц перед иконами, молятся и взирают на небеса, в надежде на чудо.
Если вышедший из казаков самородок Михаил Шолохов критиковал коллективизацию (в том числе в письмах Сталину), то Эйзенштейн воспринял ее в ином ключе — как торжество прогресса над отсталостью, цивилизации над архаикой. Он не рассматривал процесс коллективизации как насилие над деревней (в полной мере обличение насильственного переустройства деревни проявится в произведениях писателей-деревенщиков). Наоборот, «Старое и новое» роднит с «революционной трилогией» Эйзенштейна романтическая вера автора в близкое наступление «светлого будущего».
В «Старом и новом» Эйзенштейн впервые касается не недавнего прошлого, а актуальных для конца 1920-х (то есть периода съемок фильма) процессов — индустриализации и коллективизации. Режиссер в сатирических красках изображает темных невежественных крестьян, не понимающих, зачем нужна какая-то артель. «Деды жили так столетиями, и мы так же делать будем», — считали они. Однако от крестьянской среды уже отделяется молодежь, которая тянется осваивать трактора, получать образование и внедрять передовые технологии в сельское хозяйство. Этой массе открытых будущему героев Эйзенштейн противопоставляет заросших бородами, карикатурных стариков, выглядящих в индустриальном XX веке, словно пережитки крепостничества. Про этих крестьян не скажешь, что они коллектив, но лишь масса — темная, инертная, способная, по мысли режиссера, только чинить препятствия наступлению прогресса.
Сатирические образы крестьянских лиц, противящихся будущему, режиссер перенесет в «Бежин луг», где противодействие прогрессу приведет к убийству. Пока же живущие прошлым крестьяне недоуменно наблюдают за торжеством инженерной мысли, облегчающей (а где-то и вовсе устраняющей) человеческий труд. Режиссер крупным планом показывает работу машин, поэтически сравнивает движение молока внутри механизма с фонтанами и реками. Сергей Эйзенштейн разрабатывал теорию монтажа звуко-зрительных образов еще в период «революционной трилогии», однако теоретически обосновал лишь в поздние годы, в серии статей, посвященных так называемому «вертикальному монтажу». Там он писал, что «"высшее единство", в которое мы способны объединить отдельные звуки звукоряда, нам совершенно ясно рисуется линией, объединяющей их своим движением. Но и сама тональная разница их тоже характеризуется опять-таки движением».
Антиклерикальная тема, свойственная революционным фильмам Эйзенштейна (особенно «Октябрю»), в «Старом и новом» достигает особой силы. Для молебнов, крестных ходов, праздных священников и верящих им крестьян режиссер не находит иных красок, кроме гротеска. Некрасивые лица сельчан, удушенных крепостническим самодержавием, вызывают даже не жалость, а почти отвращение. Особенно поражает сцена, в которой люди в рабской покорности падают на землю, смиряя себя перед богом, до изнеможения крестятся и твердят молитвы в суеверной надежде, что творец пошлет им дождь, вместо того, чтобы при помощи передовых технологий обрести независимость от погодных условий. В серии статей «Вертикальный монтаж» режиссер вернулся к «Старому и новому», представив в виде схемы эпизод крестного хода. Словно в музыкальном произведении, Эйзенштейн называет партиями серии кадров. Одни изображают участвующих в религиозном действе мужчин, другие — женщин. Крупным планом режиссер показывает «партию нарастающего упоения религиозным изуверством», и над всем этим стоит главная монтажная линия эпизода — партия жары, в которую заключен основной сатирический элемент. Мучающиеся от жары крестьяне падают ниц перед иконами, молятся и взирают на небеса, в надежде на чудо.
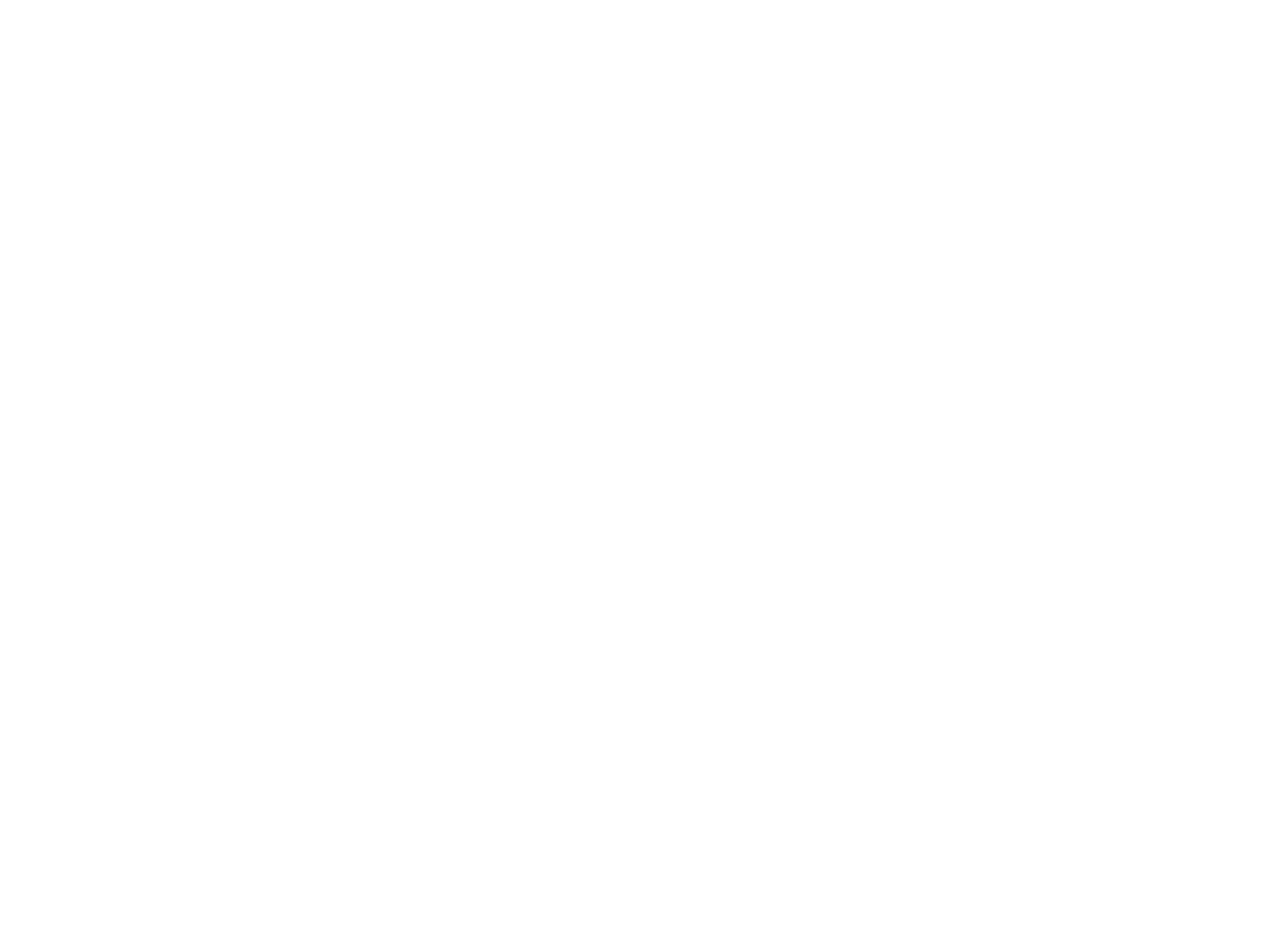
Эйзенштейн как умелый комбинатор сталкивает друг с другом разные по настроению сцены, парадоксальные образы-символы, палит из всех орудий, дабы воздействовать на зрителя и внушить ему мысль, что будущее человека в его собственных руках. Люди — не пассивные наблюдатели жизни, а активные творцы. Неслучайно символом победившей коллективизации в отдельно взятой деревне становится трактор, который играющая саму себя крестьянка Марфа Лапкина с большими трудностями, преодолевая советскую бюрократию (Эйзенштейн в нескольких емких сценах обличает праздность советских чиновников не менее ярко, чем другой певец революции, Владимир Маяковский, в стихах), наконец получает в пользование своей молочной артели. Трактористы сравниваются режиссером с авиаторами — и своей одеждой, и скоростью, с которой их машины, преодолевая сомнения не верящих в прогресс крестьян, обрабатывают землю. Технический прогресс, по мысли Эйзенштейна, нельзя остановить. Он беспощадно берет свое, как бы кто ни желал затормозить его ход, находясь в плену суеверий. Ведь уже появилось поколение «новых людей», возможно, тех самых, о которых мечтал в своем романе «Что делать?» нигилист Николай Чернышевский.
Эйзенштейн не видел ужасов коллективизации, не слышал, как сдавленно кричат под технологическим ярмом крестьяне, как стонет земля под натиском революционного переустройства общества, насильственной попытки изменить сознание крестьянской массы, заставить ее если не полюбить, то, во всяком случае, принять коллективизацию, не противиться ей. Эту пропагандистскую цель, несомненно, преследовал и фильм Сергея Эйзенштейна, который, однако, вышел гораздо сложнее, чем могло предполагать запустившее его в производство Совкино. Режиссер не только запечатлел неизбежность прогресса, но также пришел к логичному выводу, что темная крестьянская масса никогда до конца его не примет. Разные поколения не понимают и не принимают друг друга, и это невозможно изменить просветительской работой на деревне. Опорой молодого революционного государства должна быть молодежь, и она же под себя должна преобразовать мир.
Выраженная столь явно, за счет столкновения образов ярко запечатленных поколений прошлого и молодой, активной, творческой молодежи, которая даже флиртует, не прерывая работу (тут стоит особенно указать на лирическую сцену между Марфой и механиком, чинящим трактор, для которого она не жалеет свою одежду, отрывая от нее куски, чтобы предотвратить утечку масла), мысль Эйзенштейна о наивности веры в перевоспитание «отцов» могла смутить партийное руководство. Романтика и энтузиазм трудовых подвигов сплетаются в эпизоде починки трактора так прочно, что сложно отделить одно от другого. Новый человек и любить будет между делом, в перерывах между постройками дорог и мостов, освоением земель и внедрением технических новшеств. Возможно, эта страстная вера режиссера в «новое завтра» и решительное неверие в возможность революционного перевоспитания выросшего при царях народа, впитавшего холопский дух, сыграла свою роль в последующем запрете «Старого и нового».
Эйзенштейн не видел ужасов коллективизации, не слышал, как сдавленно кричат под технологическим ярмом крестьяне, как стонет земля под натиском революционного переустройства общества, насильственной попытки изменить сознание крестьянской массы, заставить ее если не полюбить, то, во всяком случае, принять коллективизацию, не противиться ей. Эту пропагандистскую цель, несомненно, преследовал и фильм Сергея Эйзенштейна, который, однако, вышел гораздо сложнее, чем могло предполагать запустившее его в производство Совкино. Режиссер не только запечатлел неизбежность прогресса, но также пришел к логичному выводу, что темная крестьянская масса никогда до конца его не примет. Разные поколения не понимают и не принимают друг друга, и это невозможно изменить просветительской работой на деревне. Опорой молодого революционного государства должна быть молодежь, и она же под себя должна преобразовать мир.
Выраженная столь явно, за счет столкновения образов ярко запечатленных поколений прошлого и молодой, активной, творческой молодежи, которая даже флиртует, не прерывая работу (тут стоит особенно указать на лирическую сцену между Марфой и механиком, чинящим трактор, для которого она не жалеет свою одежду, отрывая от нее куски, чтобы предотвратить утечку масла), мысль Эйзенштейна о наивности веры в перевоспитание «отцов» могла смутить партийное руководство. Романтика и энтузиазм трудовых подвигов сплетаются в эпизоде починки трактора так прочно, что сложно отделить одно от другого. Новый человек и любить будет между делом, в перерывах между постройками дорог и мостов, освоением земель и внедрением технических новшеств. Возможно, эта страстная вера режиссера в «новое завтра» и решительное неверие в возможность революционного перевоспитания выросшего при царях народа, впитавшего холопский дух, сыграла свою роль в последующем запрете «Старого и нового».
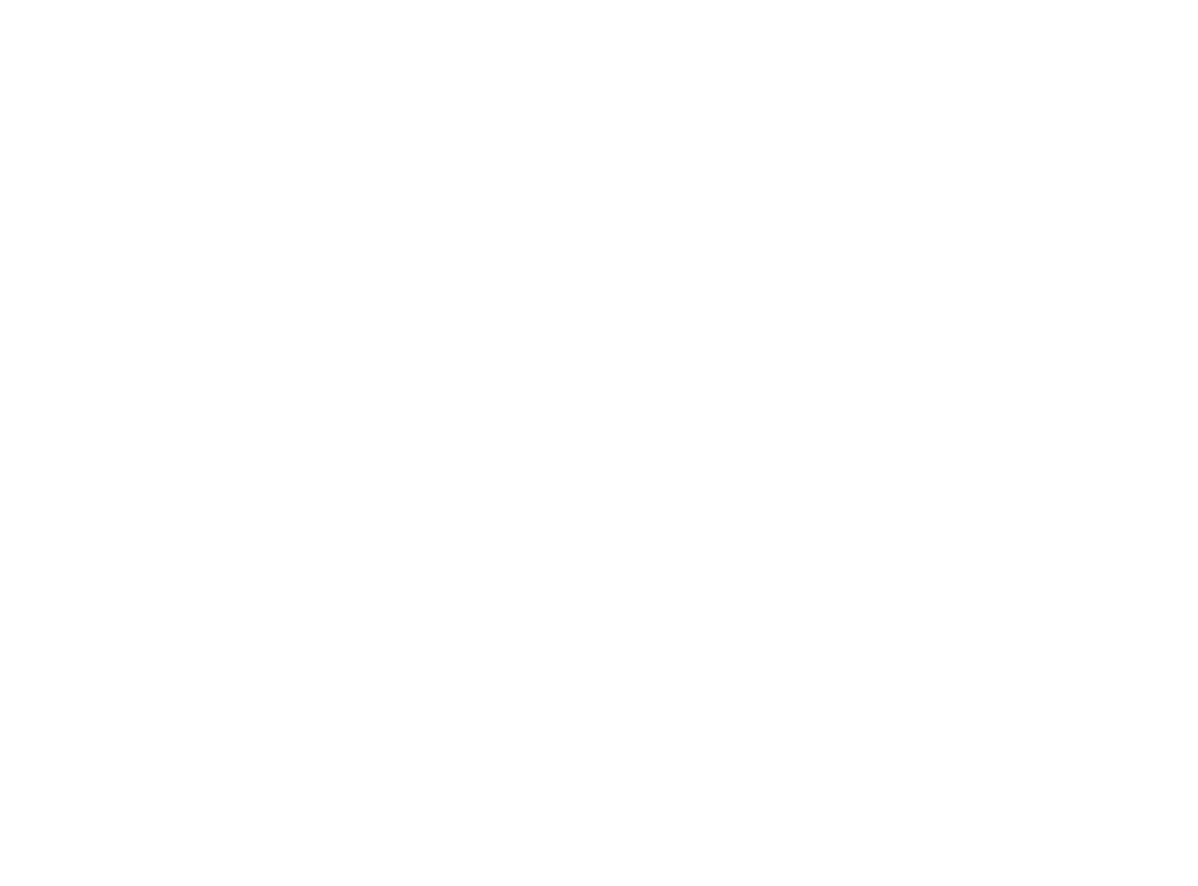
В будущих фильмах Сергей Эйзенштейн вынужден был отказаться от радикального формотворчества, а «монтаж аттракционов» постановщик микшировал традиционно изложенным сюжетом. Однако и в поздних фильмах режиссер остался романтиком. Он стремился избавить кино от театральной архаики, приветствовал все молодое в жизни и в искусстве и был убежден, что смена эпох влечет за собой преображение человечества, раскрытие его творческого потенциала в жизни и в труде.
Этим всепобеждающим оптимизмом и проникнута индустриальная поэма Эйзенштейна, в которой механизация показана с не меньшей любовью, чем у Вальтера Руттмана и Дзиги Вертова. Сергей Эйзенштейн преданно верил в революционное преобразование мира, а, будучи гениальным визионером, часто вступал в противоречия с безжизненными партийными директивами. Оттого неудивительно, что формальные открытия Эйзенштейна, яркую образность его коммунистических поэм с восторгом встретили именно на Западе. Ведь там искусство развивалось более свободно, не имея надобности постоянно держать оборону от лишенных вдохновения партийных мещан, то не дающих трактор для артели, то желающих набросить узду на чересчур уверовавших в коммунизм художников.
Редактор: Сергей Чацкий
Этим всепобеждающим оптимизмом и проникнута индустриальная поэма Эйзенштейна, в которой механизация показана с не меньшей любовью, чем у Вальтера Руттмана и Дзиги Вертова. Сергей Эйзенштейн преданно верил в революционное преобразование мира, а, будучи гениальным визионером, часто вступал в противоречия с безжизненными партийными директивами. Оттого неудивительно, что формальные открытия Эйзенштейна, яркую образность его коммунистических поэм с восторгом встретили именно на Западе. Ведь там искусство развивалось более свободно, не имея надобности постоянно держать оборону от лишенных вдохновения партийных мещан, то не дающих трактор для артели, то желающих набросить узду на чересчур уверовавших в коммунизм художников.
Редактор: Сергей Чацкий
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.
И.К. Фест, «Гитлер. Биография» (1973)