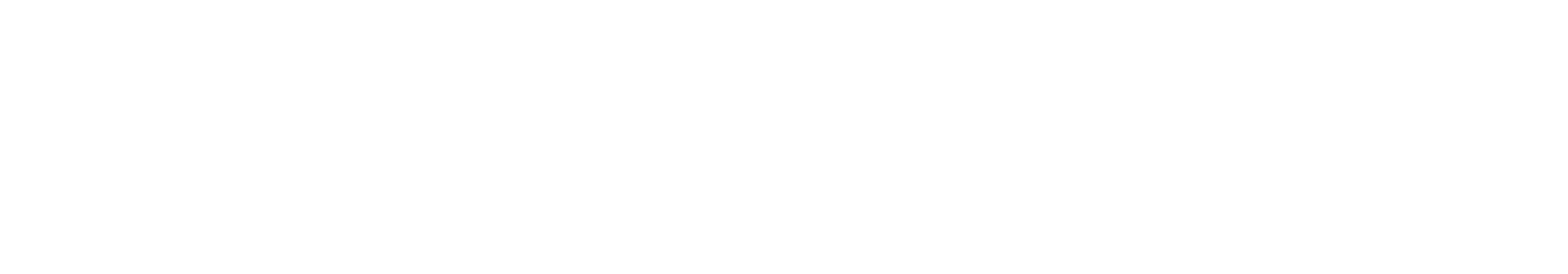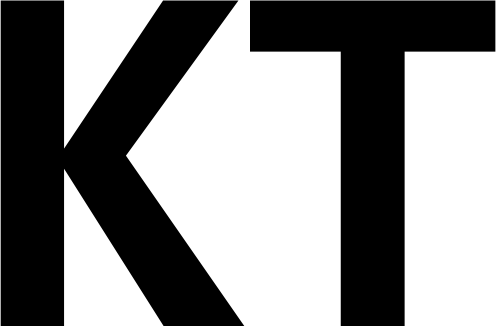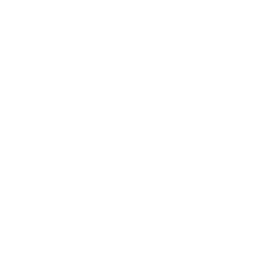ИНТЕРВЬЮ С ГРИГОРИЕМ МУЗУРОВЫМ
ИНТЕРВЬЮ С ГРИГОРИЕМ МУЗУРОВЫМ
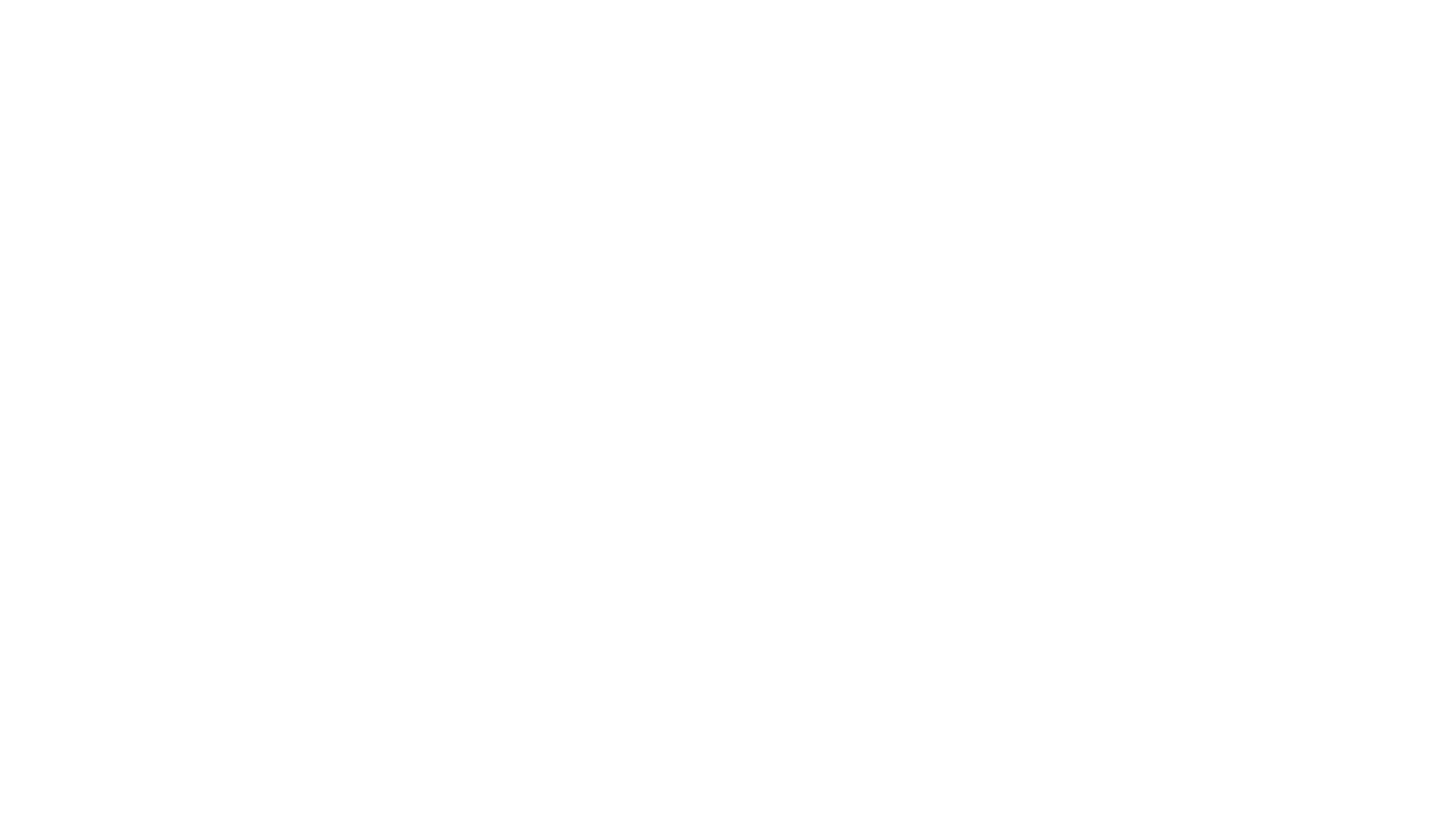
Я стараюсь научиться режиссуре через критику и теорию, ведь так вышло, что я оказался там, где их преподают. Вот феноменология, например, изучает опыт просмотра. А режиссер может его конструировать. Поэтому, изучая опыт, ты можешь что-то узнать о режиссуре. Но это такая очень неочевидная история, но иногда она работает. Поэтому для меня разные теоретические подходы к кино не являются самоцелью, но при этом они дают пространство для обучения — ты видишь, как делается кино, и понимаешь, что бы сам хотел сделать. То есть, если бы я сидел в пустой комнате, где мне беспрерывно показывали кино, а потом устраивали их обсуждение с Ольгой Сергеевной, то это уже было бы полезно.
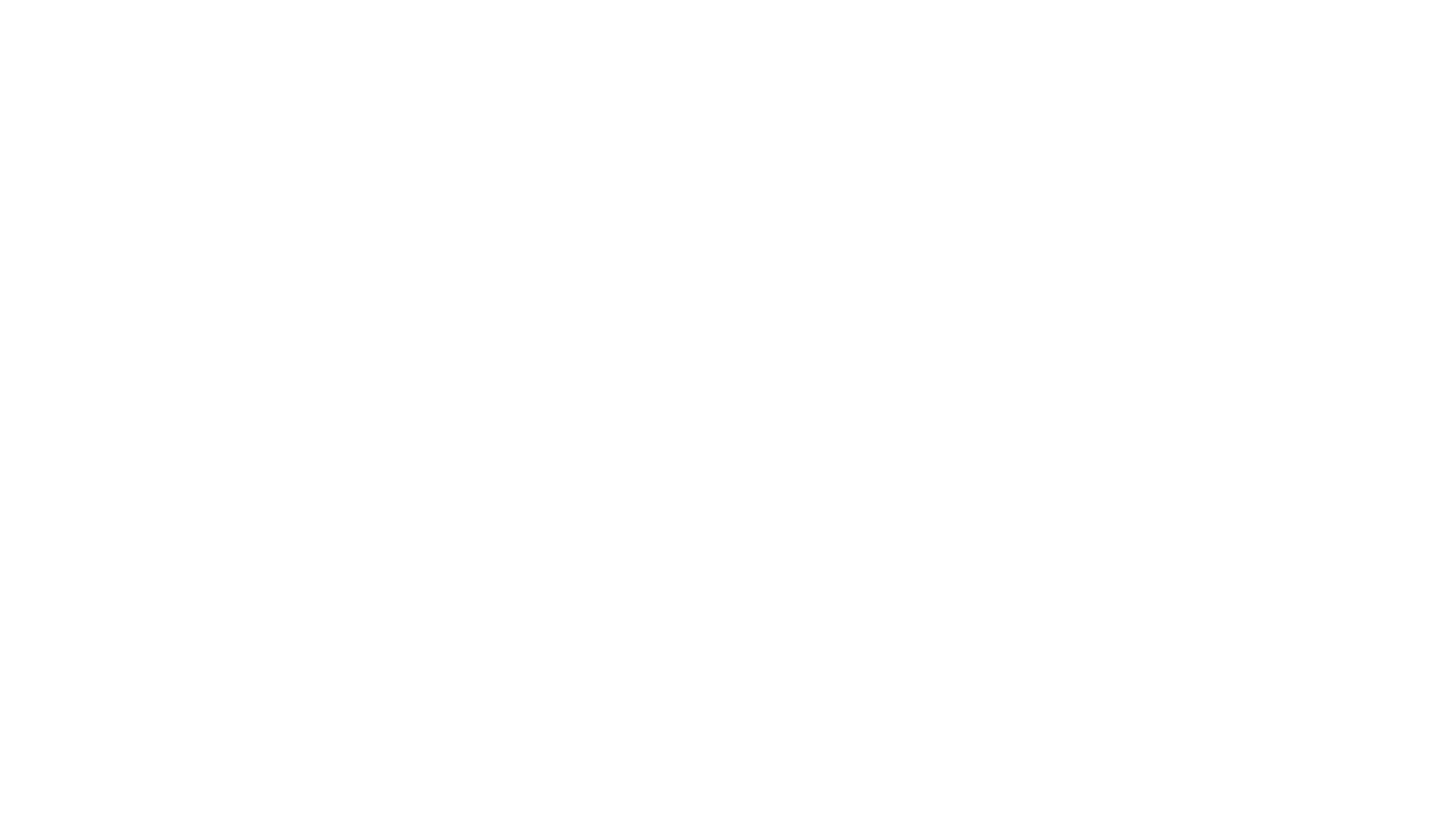
На поиск этого взгляда Ренато дал нам 5 часов. И я решил пойти снимать монастырь, хотя понимал, что работать с красивым и заведомо кинематографичным — это отдельная сложная задача. Впервые я почувствовал это на Кавказе, который можно снимать как угодно, хоть заведя камеру за спину и щелкая без разбора — в любом случае получится красивый снимок. Потому что это Кавказ! Стало ясно, что с такой красивой натурой можно работать только, если ты ее приручил и смог доказать, что-то, как ты ее снимаешь, отражает твой собственный на нее взгляд. Даже если ты сможешь передать красоту, то может получиться открыточно. Красивые вещи редко бывают интересными.
Несмотря на это, я решил пойти в монастырь и там познакомился с монастырским охранником Мишей. В какой-то момент начался шторм, и Миша помогал убирать прилавки с сувенирами. У меня вышел драйвовый трехминутный сюжет, где Миша бегает, молнии сверкают, хор поет. А потом я встретил Андрея, 12-летнего звонаря, который и стал моим героем. Все время Летней школы я проводил в монастыре с Андреем. А для того, чтобы там снимать, я получал благословение у настоятеля. Для документалиста очень важно как можно глубже интегрироваться в среду, поэтому я старался вести себя и выглядеть как можно более подобающе. Мне с этим повезло. Вот я сижу сейчас такой хипстер на Петроградке с длинными волосами и бородкой, а я возьму и уберу волосы в хвост, и я уже послушник (смеется, и, действительно, очень похож).
После «Послания...» я прочувствовал на себе смысл фразы «автор умер», ведь я в эту фразу не закладывал тех смыслов, о которых мне всегда говорят зрители. Я их до этого совсем не видел, но это оказалось здорово, когда можешь посмотреть свою работу чужими глазами. Но я точно могу сказать, что все мои фильмы про кино. Мне кажется, что это честно. Ты не пытаешься сделать вид, что тебя не существует, и что ты не пыхтишь в микрофон, а заявляешь, мол, да, я есть и все то, что случается, случается по причине кино. Ведь я оказался в этом монастыре из-за кино, и Андрей поднялся на башню в конкретную минуту, и спас там голубя, которому он был нужен в ту самую минуту, только благодаря кино.
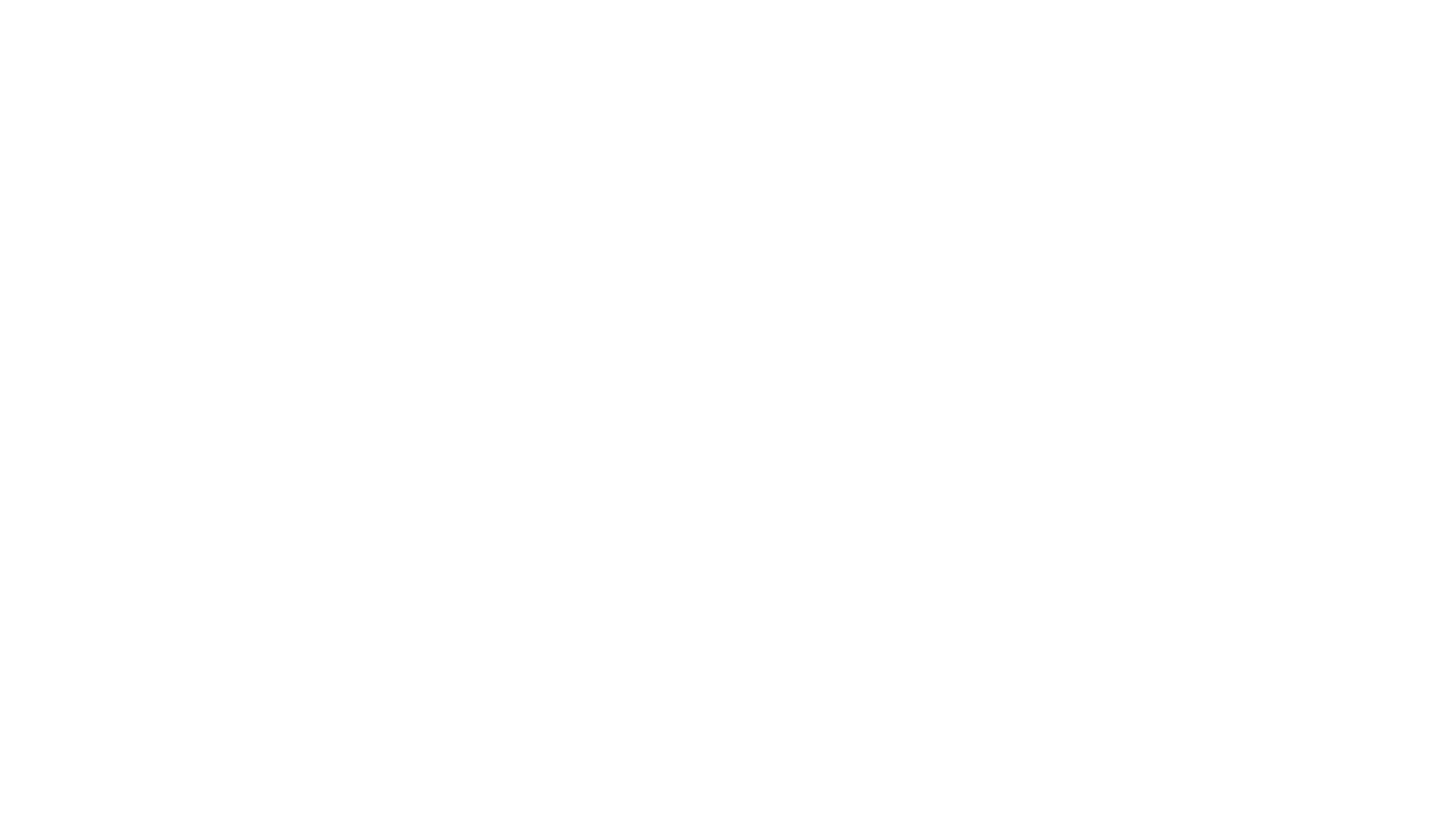
Ты говоришь о том, что тебе интересна метафоричность и саморефлексия самой киноматерии в документальных работах. А как ты относишься к документалистике, где антропологический взгляд, как кажется, доминирует над художественностью? И считаешь ли ты заслуженным, когда программу «Послания к человеку» называют составленной в первую очередь с точки зрения антропологической оптики.
В этом году программа «Послания…» довольно экспериментальна. Мне было очень хорошо на «Послании…», это прекрасная возможность увидеть свое кино на большом экране. А сказать, какой взгляд в кино преобладает очень сложно, так как камера очень жестко обращается с человеком и неминуемо пригвождает героя к фону. Кто-то старается избегать этой добавочной социальщины и уходит в документальную анимацию, которая позволяет автору убрать из кадра все лишнее. Для меня же история и герой всегда первостепенны, а элементы саморефлексии служат, скорее, способом эту историю рассказать. Ведь я тоже существую в кадре как персонаж.
А есть ли разница в создании кино про человека и про пространство? Это ведь разные вещи? Я знакома с тремя твоими проектами. Один рассказывает о жителях Брайтон-Бич, другой — о сносе сначала исторических зданий, а потом и современных, связанных с историей твоей семьи. А в последнем твоем фильме человек фактурнее места.
Да, это фильм про человека. Но он начинает работать только от контраста человека и места. Но этот контраст многосложный, ведь при всей, казалось бы, инородности Андрея в монастырских декорациях, он становится важной частью этого большого механизма. Без Андрея невозможны рутина и ритуалы не только храма, но и города, который просыпается под его звон. Со своей перемежающейся идентичностью Андрей оказался предельно уместен в монастыре. В этом как раз был интерес — попытаться нащупать контраст между тем, как Андрей оттеняет монастырь, а монастырь оттеняет его.
Вот завтра поеду в Рыбацкое на последний день съемок «Кирпичей». Героем стал Владимир 65 лет, который жил недалеко от метро Рыбацкое в деревне, которую постепенно, как и все деревни в Рыбацком, сносят под новостройки. Так вышло, что его дом стоял последним перед линией новостроек, и у него было время, чтобы завести хобби — он собрал коллекцию из 15 тысяч кирпичей, оставшихся от снесенных домов. Я начал снимать его 3 года назад, а сейчас у Владимира, наконец, выкупили дом и он начал переезжать со всеми кирпичами. Я все это снимал. Я впервые работал с таким человеком, как Владимир — он харизматичный, постоянно дает интервью региональному телевидению, водит экскурсии по своему музею и знает, что и когда нужно сказать. Такие персонажи редко хороши для документалистов, поскольку они умеют показывать себя в выгодном ракурсе.
Это позволило мне иначе взглянуть на отношения между режиссером и
героем. Он говорил мне, куда мы сейчас пойдем, какой сюжет мы будем
снимать. Мы шли, снимали, и в фильме я старался показать свою ведомость, где она была, и показать, где ее не было. Дом уже снесли, а фильм находится в монтаже.