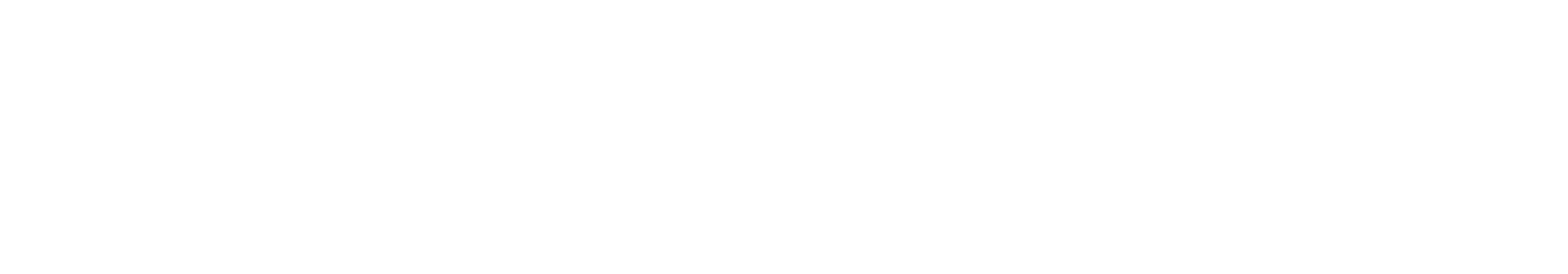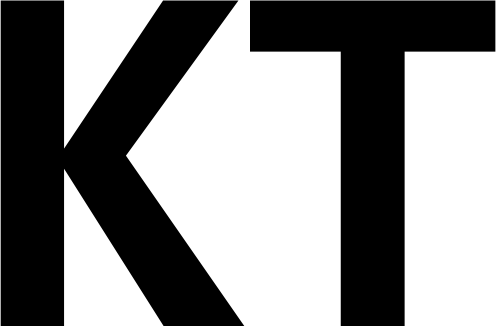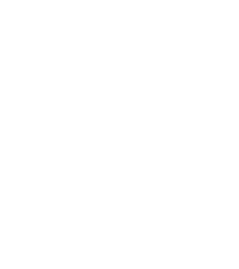АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 23 ОКТЯБРЯ 2019
«МЕДЕЯ» ЛАРСА ФОН ТРИЕРА: ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Идеология как интеллектуальный инструмент и конструирование образа Медеи в трагедии Еврипида и телевизионном проекта Ларса фон Триера
«МЕДЕЯ» ЛАРСА ФОН ТРИЕРА:
ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 23.10.2019
Идеология как интеллектуальный инструмент и конструирование образа Медеи в трагедии Еврипида и телевизионном проекта Ларса фон Триера
«МЕДЕЯ» ЛАРСА ФОН ТРИЕРА:
ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 23.10.2019
Идеология как интеллектуальный инструмент и конструирование образа Медеи в трагедии Еврипида и телевизионном проекта Ларса фон Триера
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Конструирование образов – важная составляющая любой идеологии. В классовом обществе, внутри которого доступ к принятию политических решений остается прерогативой лишь его небольшой части, идеология является интеллектуальным инструментом защиты этого господствующего слоя от всех прочих, чьи права, по тем или иным социально-экономическим причинам, оказались экспроприированы. Своеобразие идеологического мышления, как замечал Ф. Энгельс, заключается в том, что «…истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными…», поэтому оно «выводит как содержание, так и форму его из чистого мышления – или из своего собственного, или из мышления своих предшественников» [1]. Диффузный характер власти, реализующейся через господство, т.е. «систему постоянной асимметрии между социальными группами» [2], хорошо прослеживается не только в борьбе классов, но и в гендерных оппозициях, занимающих в античном мышлении особое место.
Богатый материал древнегреческих трагедий V века до н.э. открывает возможность зафиксировать важную для идеологии древности разницу между исторической действительностью и политическим воображаемым, через которое афинскими трагиками осуществлялось конструирование образа женщины, и закреплялась господствующая роль мужчины в общественно-политической жизни полиса. Однако особый интерес для нас представляет то, как древние идеологические формы, воспринятые в абсолютно иной социально-экономической ситуации, интерпретируются другими медиумами. В данном случае речь пойдет о «Медее» и её двух воплощениях: Еврипида и датского режиссера Ларса Фон Триера.
Богатый материал древнегреческих трагедий V века до н.э. открывает возможность зафиксировать важную для идеологии древности разницу между исторической действительностью и политическим воображаемым, через которое афинскими трагиками осуществлялось конструирование образа женщины, и закреплялась господствующая роль мужчины в общественно-политической жизни полиса. Однако особый интерес для нас представляет то, как древние идеологические формы, воспринятые в абсолютно иной социально-экономической ситуации, интерпретируются другими медиумами. В данном случае речь пойдет о «Медее» и её двух воплощениях: Еврипида и датского режиссера Ларса Фон Триера.
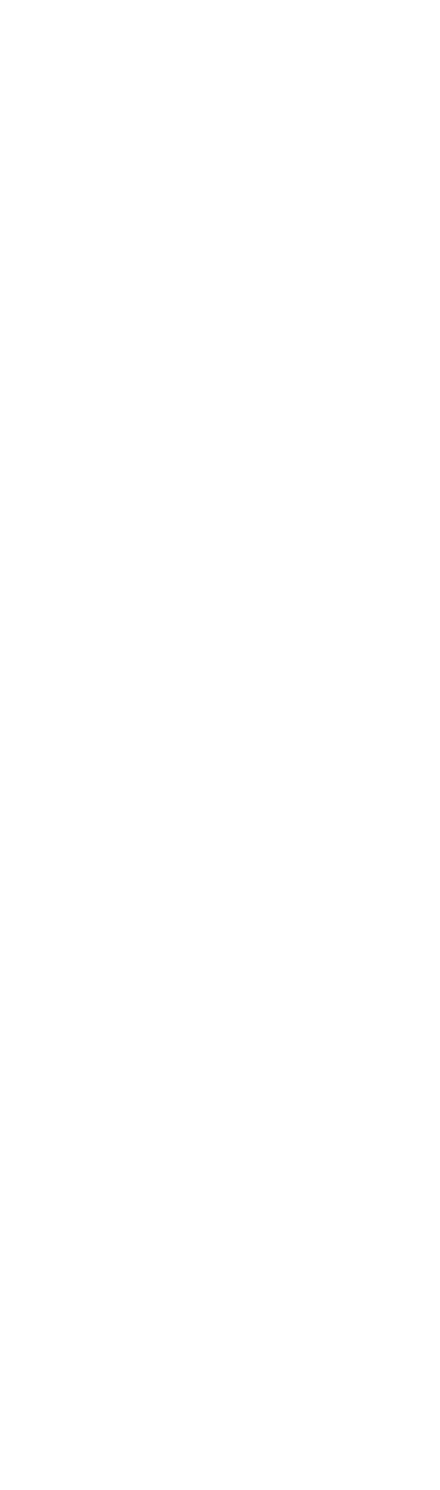
Фрагмент фрески из Геркуланума с изображением Медеи
Начнем с того, что Еврипид был единственным трагиком, который заработал себе среди комментаторов статус женоненавистника. Конечно, здесь не обошлось без влияния комедий Аристофана, в частности, «Женщины на празднике Фесмофорий», в которой женский хор осуждает Еврипида за «разоблачение их грехов», однако признает за собой вину в причинении зла мужчинам (497-519.). К тому же нередко у самого Еврипида мужские персонажи, вроде Ипполита и Ореста, позволяют себе резкие высказывания в адрес женщин, вроде такого: «Иль для того, чтоб род людской продолжить, // Ты обойтись без женщины не мог?» и многих других (Hip. 624-650.). Вместе с тем, в творчестве древнего трагика появляются такие сильные женщины, как Медея, Клитемнестра и Федра. Поэтому правильней считать, что, подобно софистам, Еврипид, скорее, использовал в своих трагедиях полярные точки зрения как средство изучения повсеместно бытующих суждений о женщинах, чтобы критически взглянуть на эти устоявшиеся схемы [3].
Набор женских образов достался классической эпохе от мифов бронзового века, когда женщины из знатных родов имели влияние не только внутри общины, но и в «большой политике». Работая с наследием традиции, мужчины-драматурги, выросшие в устойчивом патриархальном обществе и усвоившие ключевые мыслительные оппозиции («чистое мышление»), т.е. дихотомию дикости и культурного состояния (женское начало и, соответственно, мужское у пифагорейцев), могли кардинально менять расстановку акцентов в старых сюжетах. К примеру, несмотря на то, что Гомер в «Одиссее» возлагает вину за убийство Агамемнона на Эгиста (Od. 29-43.), Эсхил в «Агамемноне» обращает наше внимание на коварство Клитемнестры, а затем в «Хоэфорах» задается риторическим вопросом о пределе «дерзостной женской страсти» (592-600) [4]. Неизменность положения мужчины в обществе подвергалась сомнению самим культурным наследием греков. Это заставило мужское политическое воображаемое выработать идеологию превосходства, закрепляющуюся через такие воображаемые оппозиции, как, допустим, общество амазонок или трагические героини греческой драмы.
Как утверждает А. ван Хоф: «Мифы помогали смягчать сомнения подобного рода... в мифах и иных художественных текстах [античные люди] должны были «заказывать» особые добродетели, ожидавшиеся от женщин» [5]. Наравне с рабами и чужеземцами женщины в полисе отчуждались от принятия политических решений, однако только они в воображении греческих идеологов могли по-настоящему посягнуть на власть и даже получить своих рабов [6]. И все-таки «женщина как она есть» внушала больший страх и негодование мужской публике, когда действовала в интересах частных и семейных, как многие из героинь «женоненавистника» Еврипида.
Набор женских образов достался классической эпохе от мифов бронзового века, когда женщины из знатных родов имели влияние не только внутри общины, но и в «большой политике». Работая с наследием традиции, мужчины-драматурги, выросшие в устойчивом патриархальном обществе и усвоившие ключевые мыслительные оппозиции («чистое мышление»), т.е. дихотомию дикости и культурного состояния (женское начало и, соответственно, мужское у пифагорейцев), могли кардинально менять расстановку акцентов в старых сюжетах. К примеру, несмотря на то, что Гомер в «Одиссее» возлагает вину за убийство Агамемнона на Эгиста (Od. 29-43.), Эсхил в «Агамемноне» обращает наше внимание на коварство Клитемнестры, а затем в «Хоэфорах» задается риторическим вопросом о пределе «дерзостной женской страсти» (592-600) [4]. Неизменность положения мужчины в обществе подвергалась сомнению самим культурным наследием греков. Это заставило мужское политическое воображаемое выработать идеологию превосходства, закрепляющуюся через такие воображаемые оппозиции, как, допустим, общество амазонок или трагические героини греческой драмы.
Как утверждает А. ван Хоф: «Мифы помогали смягчать сомнения подобного рода... в мифах и иных художественных текстах [античные люди] должны были «заказывать» особые добродетели, ожидавшиеся от женщин» [5]. Наравне с рабами и чужеземцами женщины в полисе отчуждались от принятия политических решений, однако только они в воображении греческих идеологов могли по-настоящему посягнуть на власть и даже получить своих рабов [6]. И все-таки «женщина как она есть» внушала больший страх и негодование мужской публике, когда действовала в интересах частных и семейных, как многие из героинь «женоненавистника» Еврипида.
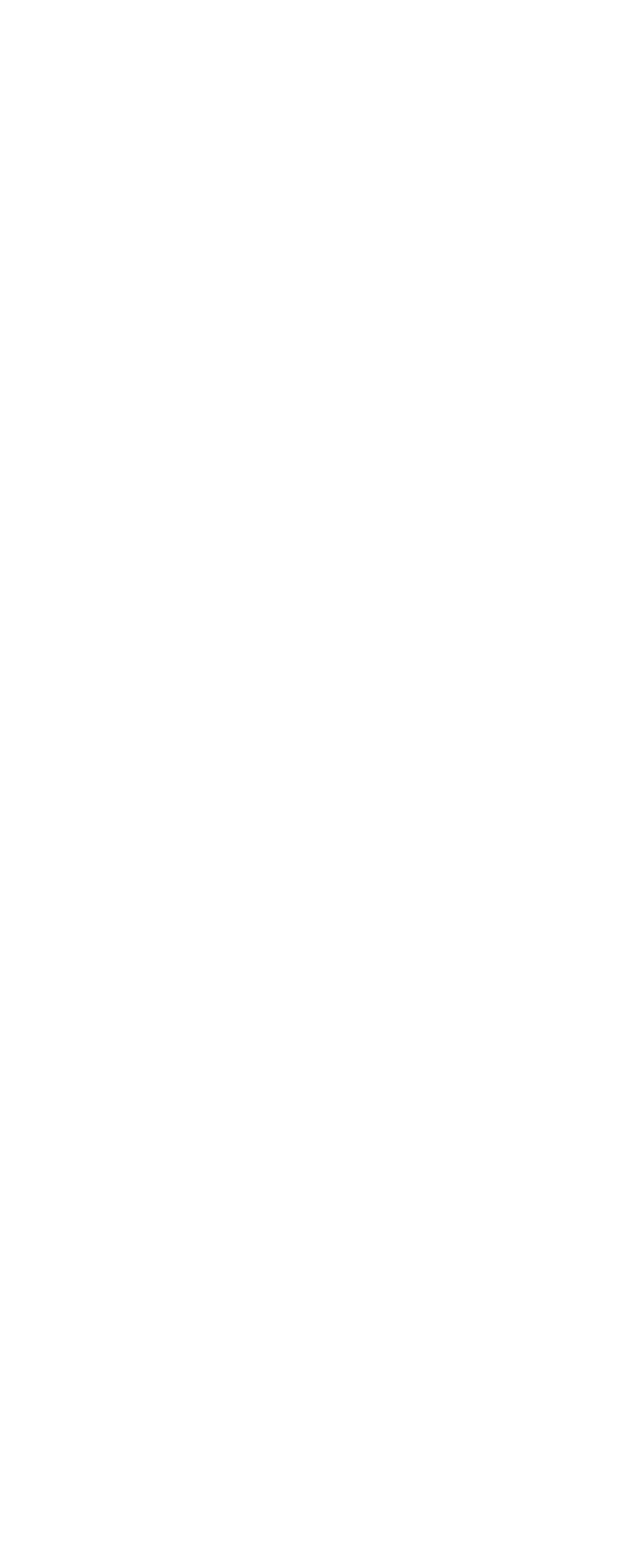
«Медея». Плакат Альфонса Мухи
Трагедии, ставившиеся в театре Диониса в Афинах, хоть и воспроизводили идеологию гражданского общества и формировали мужское гражданское эго, не были строго дидактическими. Наоборот, соревновательный характер Дионисий и присутствие среди зрителей периферийных (негражданских) групп населения (женщин, детей, рабов и иностранцев) предполагали более сложную форму классической драмы. Соревнования трагических поэтов были таким же демократическим афинским институтом, отзывчивым к изменяющейся политической ситуации. В силу этого, греческая трагедия фиксировала важные для полиса конфликтные и напряженные ситуации, освещая их с разных точек зрения – и тот факт, что Еврипид получал хор так часто (22 раза), говорит лишь о том, что его работа высоко ценилась афинянами [7].
Подрывной потенциал «Медеи» Еврипида хорошо прослеживается на фоне предшествующей ей традиции. До появления знаменитой трагедии в творчестве других поэтов Медея, как это и было положено женскому персонажу, занимала пассивную позицию. У Гесиода она сочетается браком с «пастырем народов» Ясоном (Theogony. 1000-1001.). В «Пифийских песнях» Пиндара могущественная колдунья сама оказывается жертвой любовных чар (Pythian. IV. 215-220.). Гнет традиции не остается бесследным, и уже у Еврипида Медея, приняв на себя активную роль, осудит низкое положение женщины, как предмета, которым можно завладеть без её воли (Med. 230-240.). К тому же, Медея Еврипида обладает самосознанием, ярко выраженным Я, которое за ней отрицает Ясон, связывая все свои успехи с покровительством Киприды (Med. 528-530.). Именно это самосознание и независимость суждений, с последующей непокорностью «судьбе», придает инаковости Медеи большее значение, выводя её за рамки отведенных ей ролей «жены и чужестранки»[8].
Мало того, что Медея отводит смерть от себя и навлекает её на Креонта, Главку и своих детей, тем самым утверждая свое Я, она делает это необычным способом. Обратим вниманием на одну деталь. Традиционно женское орудие самоубийства в античной драме – это подручные предметы, вроде узловатой вуали, пояса, головной повязки или, редко, веревки. Это может символически указывать на обольстительное воздействие женщины или «женскую хитрость», которой, по мысли Николь Лоро, так опасаются древние авторы. Меч же, колющий и разрывающий – сугубо мужское орудие убийства [9]. В свою очередь, Медея, вооруженная кинжалом, занимает активную мужскую позицию (подобно Лукреции, что, по словам Валерия Максима, была наделена мужской душой) [10]. И, в отличие от Антигоны Софокла, она до конца оспаривает традиционные для патриархального общества конвенции относительно природы женщин [11]. Однако стоит подчеркнуть, что внимание Еврипида к сценам патриархального быта, обусловлено, наверное, как и прежде, желанием поспособствовать восстановлению порядка, всеобщего благочестия членов афинского общества, к тому времени стоявшего на пороге Пелопонесской войны.
Трагическое миросозерцание, сопровождающееся постановкой моральных и экзистенциальных вопросов, присуще и творчеству Ларса Фон Триера, экранизировавшего для телевидения по заказу департамента датского кино в 1988 г. «Медею» Еврипида по сценарию Карла Теодора Дрейера. Телевизионный формат, оригинальный текст Еврипида и преемственность дрейерского гуманистического взгляда на религию обусловили форму и содержание одной из лучших экранизаций античной классики [12].
Подрывной потенциал «Медеи» Еврипида хорошо прослеживается на фоне предшествующей ей традиции. До появления знаменитой трагедии в творчестве других поэтов Медея, как это и было положено женскому персонажу, занимала пассивную позицию. У Гесиода она сочетается браком с «пастырем народов» Ясоном (Theogony. 1000-1001.). В «Пифийских песнях» Пиндара могущественная колдунья сама оказывается жертвой любовных чар (Pythian. IV. 215-220.). Гнет традиции не остается бесследным, и уже у Еврипида Медея, приняв на себя активную роль, осудит низкое положение женщины, как предмета, которым можно завладеть без её воли (Med. 230-240.). К тому же, Медея Еврипида обладает самосознанием, ярко выраженным Я, которое за ней отрицает Ясон, связывая все свои успехи с покровительством Киприды (Med. 528-530.). Именно это самосознание и независимость суждений, с последующей непокорностью «судьбе», придает инаковости Медеи большее значение, выводя её за рамки отведенных ей ролей «жены и чужестранки»[8].
Мало того, что Медея отводит смерть от себя и навлекает её на Креонта, Главку и своих детей, тем самым утверждая свое Я, она делает это необычным способом. Обратим вниманием на одну деталь. Традиционно женское орудие самоубийства в античной драме – это подручные предметы, вроде узловатой вуали, пояса, головной повязки или, редко, веревки. Это может символически указывать на обольстительное воздействие женщины или «женскую хитрость», которой, по мысли Николь Лоро, так опасаются древние авторы. Меч же, колющий и разрывающий – сугубо мужское орудие убийства [9]. В свою очередь, Медея, вооруженная кинжалом, занимает активную мужскую позицию (подобно Лукреции, что, по словам Валерия Максима, была наделена мужской душой) [10]. И, в отличие от Антигоны Софокла, она до конца оспаривает традиционные для патриархального общества конвенции относительно природы женщин [11]. Однако стоит подчеркнуть, что внимание Еврипида к сценам патриархального быта, обусловлено, наверное, как и прежде, желанием поспособствовать восстановлению порядка, всеобщего благочестия членов афинского общества, к тому времени стоявшего на пороге Пелопонесской войны.
Трагическое миросозерцание, сопровождающееся постановкой моральных и экзистенциальных вопросов, присуще и творчеству Ларса Фон Триера, экранизировавшего для телевидения по заказу департамента датского кино в 1988 г. «Медею» Еврипида по сценарию Карла Теодора Дрейера. Телевизионный формат, оригинальный текст Еврипида и преемственность дрейерского гуманистического взгляда на религию обусловили форму и содержание одной из лучших экранизаций античной классики [12].
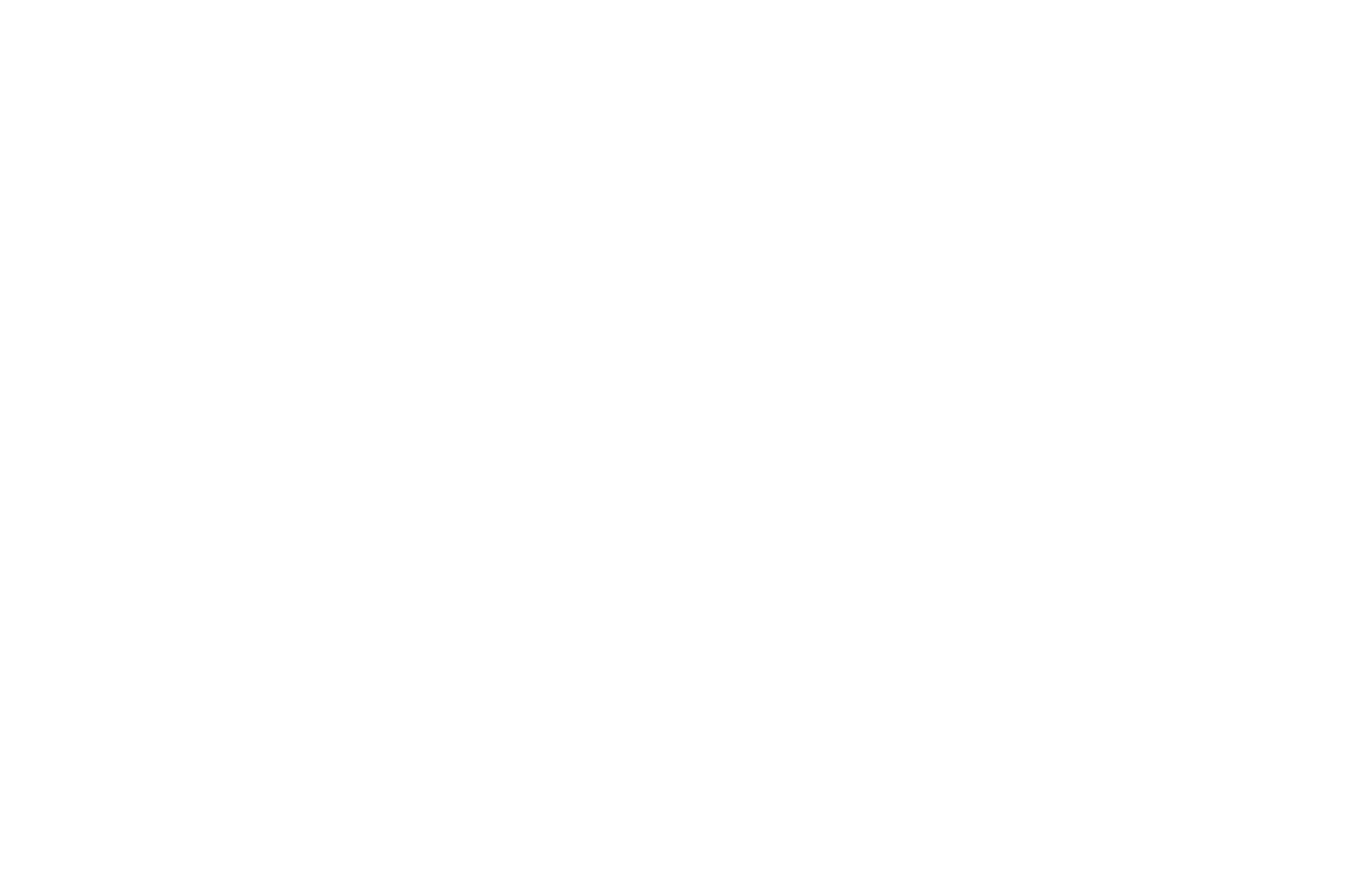
«Страсти Жанны д'Арк» Карла Теодора Дрейера
Средневековый сеттинг (фильм снят на берегу Ваттового моря) и зернистость изображения, достигнутая при помощи повторной съемки проецируемого в лаборатории изображения, служат созданию ощущения ветхости экранного мира. Таким образом, архаичное настроение и гипнотическая сдержанность повествования должны были войти в благотворный конфликт с беспокойностью и «клиповостью» современного ТВ [13]. Здесь Триер следует за своим любимым режиссером Дрейером, предпочитавшим показывать на экране возвышенные, даже эфемерные образы героев с ясностью и простотой присущей немому кино. Крупные планы, а также акцент на страдающем женском персонаже, подвергающемуся давлению со стороны близких людей и власти, отсылают нас к «Страстям Жанны д'Арк» (1928) и «Дню гнева» (1943). Одухотворенность героев и универсальные темы (справедливость, любовь и вера) как нельзя лучше отражают сущность лежащей в основе истории религиозной истины [14].
В своей работе Триер, как некогда и Пазолини, сохраняя в общих чертах сюжетную канву трагедии, старается создать в фильме отдельный мир, в котором метафизическое измерение было бы органично связано с политикой и экзистенциальными поисками. Если для Пазолини была важна проблема обретения и утраты мифологического сознания, то датский режиссер, в общем-то, придерживаясь той же левой оптики, концентрирует свое внимание на политической интриге между Ясоном, Креонтом и Главкой, а именно – на политике преемственности, в которой женщине как субъекту отводится строго инструментальная роль [15]. Меняется и сама Медея: из пылкой и эмоциональной героини, под воздействием типажей выведенных в творчестве Дрейера, она трансформируется в глубоко страдающую одинокую натуру (хор из фильма исключен), погруженную в меланхолию, связанную «с неосознанной [идеальной] утратой объекта [любви]…», пользуясь определением Фрейда [16]. Триер, опираясь на традицию экзистенциальной философии Кьеркегора и понимание политики в трагическом ключе как эвристической структуры, в «Медее» пытается показать неотъемлемую связь между меланхолией, ответственностью и политическим действием [17].
Важную роль в фильме Триера играет противостояние антуражей: узкие и слабоосвещенные катакомбы царского дворца, вызывающие чувство клаустрофобии, и открытые природные ландшафты, среди которых на отшибе Коринфа ютится Медея с детьми в маленьком доме. Связь Медеи с силами природы показана через её взаимодействие с водой, а также метафорически – монтажным сопоставлением её развевающихся волос и дрожащей под сильным ветром травы в последней сцене. Царь Креонт бесконечно далек от мира Медеи, он боится за судьбу дочери, которая, собственно, в экранизации инициирует изгнание Медеи. Главка – политизированный и, одновременно, эротизированный образ – полная противоположность Медее, чужестранке, покинутой мужем и родными, носящей траурное черное платье, с ног до головы закрывающее тело. Между ними, как двумя полюсами морального напряжения, мечется Ясон, вознагражденный за приумножение богатств Коринфа возможностью стать членом царской семьи [18].
В своей работе Триер, как некогда и Пазолини, сохраняя в общих чертах сюжетную канву трагедии, старается создать в фильме отдельный мир, в котором метафизическое измерение было бы органично связано с политикой и экзистенциальными поисками. Если для Пазолини была важна проблема обретения и утраты мифологического сознания, то датский режиссер, в общем-то, придерживаясь той же левой оптики, концентрирует свое внимание на политической интриге между Ясоном, Креонтом и Главкой, а именно – на политике преемственности, в которой женщине как субъекту отводится строго инструментальная роль [15]. Меняется и сама Медея: из пылкой и эмоциональной героини, под воздействием типажей выведенных в творчестве Дрейера, она трансформируется в глубоко страдающую одинокую натуру (хор из фильма исключен), погруженную в меланхолию, связанную «с неосознанной [идеальной] утратой объекта [любви]…», пользуясь определением Фрейда [16]. Триер, опираясь на традицию экзистенциальной философии Кьеркегора и понимание политики в трагическом ключе как эвристической структуры, в «Медее» пытается показать неотъемлемую связь между меланхолией, ответственностью и политическим действием [17].
Важную роль в фильме Триера играет противостояние антуражей: узкие и слабоосвещенные катакомбы царского дворца, вызывающие чувство клаустрофобии, и открытые природные ландшафты, среди которых на отшибе Коринфа ютится Медея с детьми в маленьком доме. Связь Медеи с силами природы показана через её взаимодействие с водой, а также метафорически – монтажным сопоставлением её развевающихся волос и дрожащей под сильным ветром травы в последней сцене. Царь Креонт бесконечно далек от мира Медеи, он боится за судьбу дочери, которая, собственно, в экранизации инициирует изгнание Медеи. Главка – политизированный и, одновременно, эротизированный образ – полная противоположность Медее, чужестранке, покинутой мужем и родными, носящей траурное черное платье, с ног до головы закрывающее тело. Между ними, как двумя полюсами морального напряжения, мечется Ясон, вознагражденный за приумножение богатств Коринфа возможностью стать членом царской семьи [18].
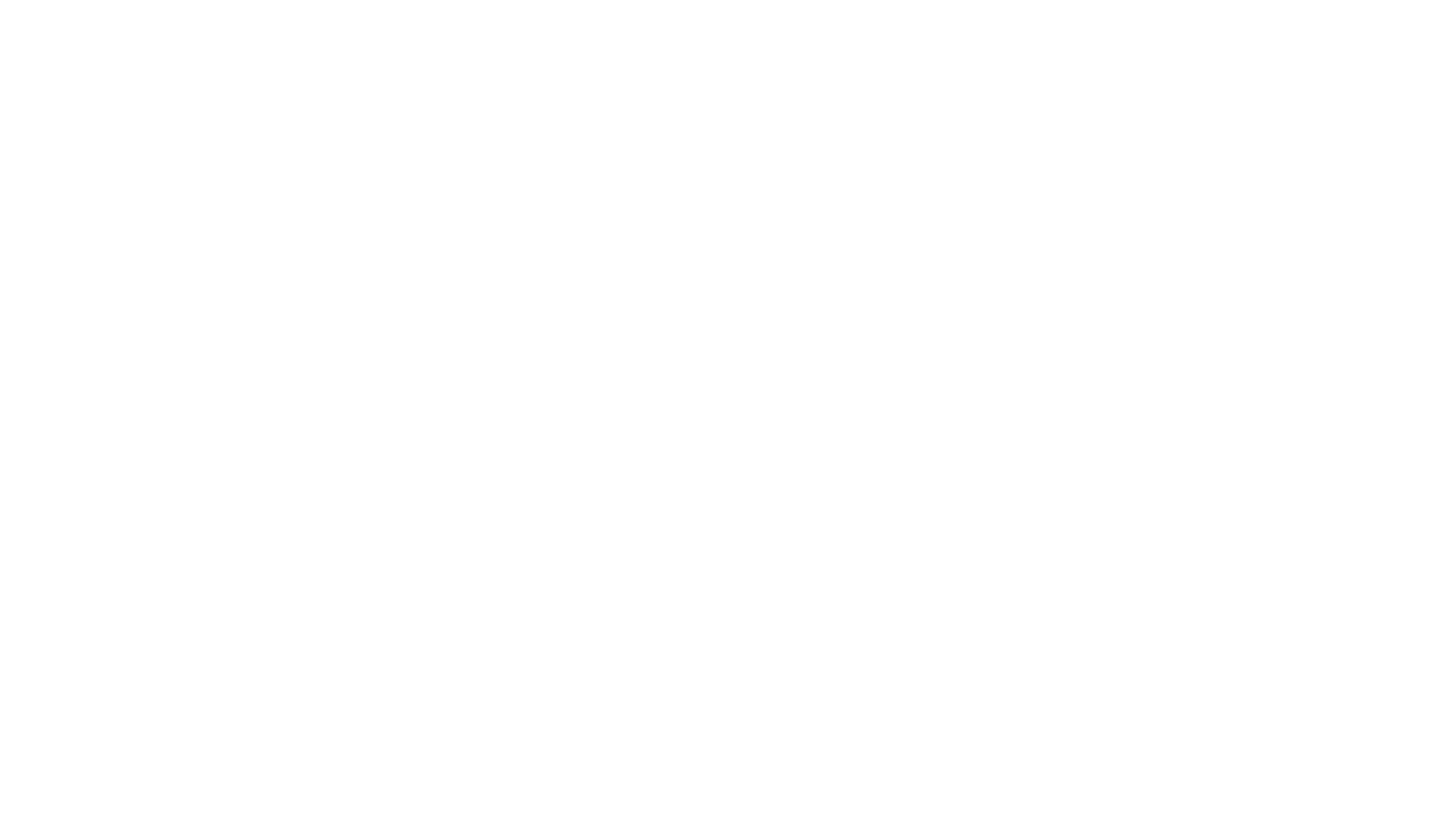
Эгей, в режиссерской адаптации, как и у Еврипида, помогает Медее сбежать из Коринфа в обмен на её магические услуги – она должна излечить его от бесплодия (Med. 720-729.). Получается, что политика преемственности для мужчины предполагает сохранение и передачу полученной власти, поскольку дети являются его прямой собственностью [19]. Получается, что прагматичный политик Ясон делает выбор между двумя семьями, предполагающими разные политические перспективы: славу или забвение. Соблазнительность обладания властью подчеркивается образом Главки, чарующей его своей красотой, прячась за тонкой вуалью внутри свадебного шатра. Тем самым, выраженное у греков символически «женское коварство» трансформируется у Триера в имплицитное свойство власти.
Медея Еврипида открыто проклинает детей, рожденных от Ясона (Med. 111-115.), так как её чувство потери усугубляется и её социальным положением; Триер же показывает злодеяние Медеи как вынужденное действие, которое она совершает, преодолевая себя, отрекаясь от материнской любви как от проклятия всего женского рода [20]. Говоря психоаналитически, Медея находит субстанциональный вид своей меланхолии, и, убивая детей, придается действительной скорби [21]. Подобное осмысление еврипидовской трагедии можно встретить и у Сенеки, Медея которого метафизически обретает потерянных ею близких, власть и девственность, только совершив финальную месть (Sen. Med. 982-991).
Однако важно подчеркнуть большую разницу между «ведьмой Медеей» Сенеки и «страдающей мстительницей» Триера. Её восстание – не властный триумф, а крестный ход, представленный сложной мизансценой: Медея тащит своих детей на повозке к горе, напоминающей Морию (место убийство Исаака Авраамом). Старший сын мстительницы помогает ей повесить младшего ребенка на дереве (чей силуэт присутствует на открывающих фильм титрах), утверждая: «Я знаю, что должно произойти». Это заявление круто меняет наше представление о классической трагедии, внося в обсуждение всех поставленных проблем категории свободы и необходимости.
Медея Еврипида открыто проклинает детей, рожденных от Ясона (Med. 111-115.), так как её чувство потери усугубляется и её социальным положением; Триер же показывает злодеяние Медеи как вынужденное действие, которое она совершает, преодолевая себя, отрекаясь от материнской любви как от проклятия всего женского рода [20]. Говоря психоаналитически, Медея находит субстанциональный вид своей меланхолии, и, убивая детей, придается действительной скорби [21]. Подобное осмысление еврипидовской трагедии можно встретить и у Сенеки, Медея которого метафизически обретает потерянных ею близких, власть и девственность, только совершив финальную месть (Sen. Med. 982-991).
Однако важно подчеркнуть большую разницу между «ведьмой Медеей» Сенеки и «страдающей мстительницей» Триера. Её восстание – не властный триумф, а крестный ход, представленный сложной мизансценой: Медея тащит своих детей на повозке к горе, напоминающей Морию (место убийство Исаака Авраамом). Старший сын мстительницы помогает ей повесить младшего ребенка на дереве (чей силуэт присутствует на открывающих фильм титрах), утверждая: «Я знаю, что должно произойти». Это заявление круто меняет наше представление о классической трагедии, внося в обсуждение всех поставленных проблем категории свободы и необходимости.
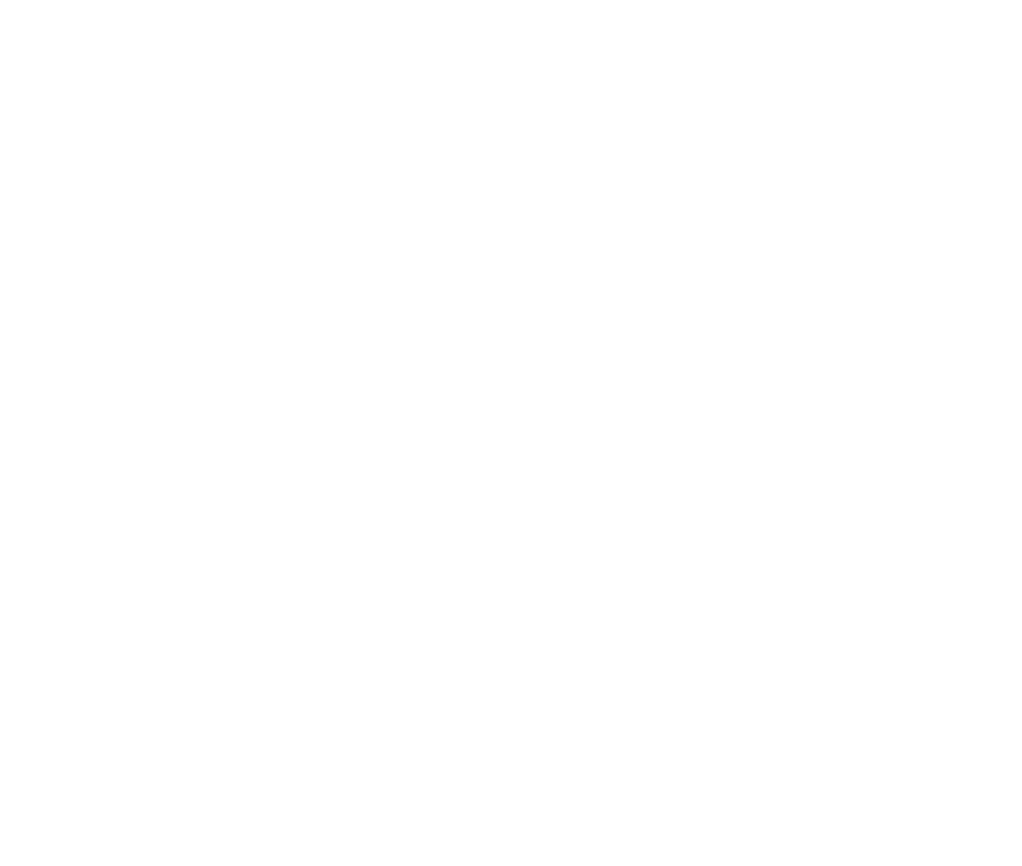
Трагедия приводит к жестокому столкновению человеческой автономии и божественного предопределения (финальные титры фильма оповещают нас о том, что те пути, которыми Бог себя являет миру – таинственны и неисповедимы). Именно ребенок, олицетворяющий сам режиссерский замысел и, таким образом, отчуждая, по Брехту, материал постановки для зрителя, доверяет Медею абсурдному божественному провидению, чье благо неизмеримо и не поддается разумному осмыслению, как понимал его Кьеркегор [22]. Получается, что Медея, живущая «эстетически», оказывается объективно невиновной, но субъективно она выбирает страдание как часть освобождения, аналогично тому, как поступает в «Картинах освобождения» (1982) героиня Керстен Олесен, мстя своему бывшему любовнику, нацистскому захватчику, чтобы дать ему шанс искупить вину перед человечеством. И «Медея» Фон Триера укрепляет это трагическое понимание политического, как греховного, коварного и соблазнительного – противопоставить которому возможно лишь справедливое возмездие, ведущее к свободе по via dolorosa.
Редактор: Лена Черезова
Редактор: Лена Черезова
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.
Маркс К. Энгельс Ф. Избранные письма. М., 1947. С. 462.
Бертоло А. Оставим пессимизм до лучших времен. Переосмысляя анархизм. М., 2018. С. 31.
Pomeroy S. B. Goddesses, whores, wives, and slaves. Woman in classic antiquity. New York, 1995. P. 107.
Видаль-Накэ П. Черный охотник. Формы мышления и формы общества в греческом мире. М., 2001. С. 35.
Ван Хоф А. Женские самоубийства в античном мире: между вымыслом и фактами // Вестник древней истории. 1991. Вып. 2. С. 20.
Ван Хоф А. Женские самоубийства в античном мире: между вымыслом и фактами // Вестник древней истории. 1991. Вып. 2. С. 36.
Allan W. Euripides: Medea. London, 2008. P. 12-15.
Lauriola R. Medea // Brill's Companion to the Reception of Euripides. Leiden; Boston, 2015. P. 380-381.
Loraux N. Tragic ways of killing a woman. Cambridge; London, 1987. P. 9-11.
Ван Хоф А. Женские самоубийства в античном мире: между вымыслом и фактами // Вестник древней истории. 1991. Вып. 2. С. 24.
Pomeroy S. B. Goddesses, whores, wives, and slaves. Woman in classic antiquity. New York, 1995. P. 99-102.
Baertschi A. M. Rebel and Martyr: The Medea of Lars von Trier // Ancient Greek Women in Film. Oxford, 2013. P. 118-119.
Forst A. Leidende Racherin: Lars von Triers Medea // Bewegte Antike. Antike Themen im modernen Film. Stuttgart; Weimar, 2002. P. 73.
Baertschi A. M. Rebel and Martyr: The Medea of Lars von Trier // Ancient Greek Women in Film. Oxford, 2013. P. 120-121.
Christie I. Between Magic and Realism: Medea on Film // Medea in Performance. Oxford, 2000. P. 147-148, 156.
Фрейд З. Скорбь и меланхолия // Художник и фантазирование. М., 1995. С. 253.
Leonard M. "I know what has to happen": Tragedy in Lars von Trier's Medea // Politics, Theory, and Film: Critical Encounters with Lars von Trier. Oxford, 2016.
Baertschi A. M. Rebel and Martyr: The Medea of Lars von Trier // Ancient Greek Women in Film. Oxford, 2013. P. 129-130.
Pomeroy S. B. Goddesses, whores, wives, and slaves. Woman in classic antiquity. New York, 1995. P. 100-101.
Baertschi A. M. Rebel and Martyr: The Medea of Lars von Trier // Ancient Greek Women in Film. Oxford, 2013. P. 132-133.
Leonard M. "I know what has to happen": Tragedy in Lars von Trier's Medea // Politics, Theory, and Film: Critical Encounters with Lars von Trier. Oxford, 2016.
Кьеркегор С. Болезнь к смерти. М., 2019. С. 55.