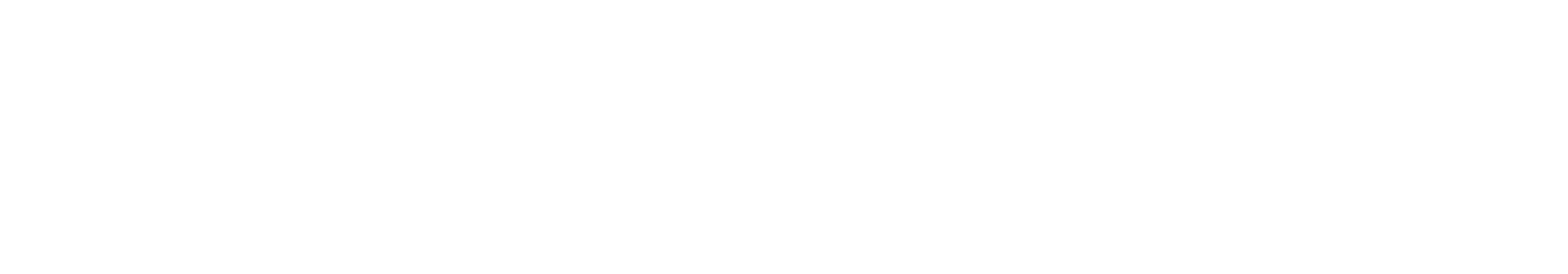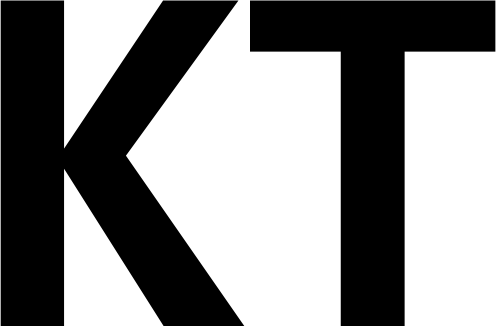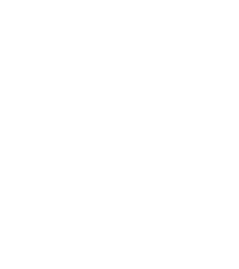АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 15 ДЕКАБРЯ 2021
ХЭППИ-ЭНД: «ОДОМАШНЕННОЕ НАСИЛИЕ» В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ
Позиция Михаэля Ханеке по отношению к жестокости в кино и фильм «Хэппи-энд» как доказательство коммуникационного отчуждения представителей постиндустриального общества
ХЭППИ-ЭНД: «ОДОМАШНЕННОЕ НАСИЛИЕ»
В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ
В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ
АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 15.12.2021
Позиция Михаэля Ханеке по отношению к жестокости в кино и фильм «Хэппи-энд» как доказательство коммуникационного отчуждения представителей постиндустриального общества
ХЭППИ-ЭНД: «ОДОМАШНЕННОЕ НАСИЛИЕ»
В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ
В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ
АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 15.12.2021
Позиция Михаэля Ханеке по отношению к жестокости в кино и фильм «Хэппи-энд» как доказательство коммуникационного отчуждения представителей постиндустриального общества
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Рациональность зрителя — вот то, к чему обращается все модернистское искусство, пытаясь реализовать свою главную политическую интенцию: преодоление расстояния между искусством и жизнью. Видя, что на зыбкой почве мимесиса цветут сочувственность и морализм — средства примирения с господствующим порядком вещей — художники XX века отказываются от верности жизнеподобию и всеми силами стараются уйти от него. Существующая в парадигме модернизма уверенность, что по ту сторону образов, описывающих нерефлексивный личный опыт как нечто трансцендентное, находится объективная реальность, без познания механизмов которой невозможна борьба за изменение социальных условий существования, придает приемам «остранения» (русские формалисты) и «очуждения» (Б. Брехт) художественного материала первостепенное значение. Отныне чтобы разоблачить психологические манипуляции традиционного буржуазного искусства, закреплявшего статус-кво, внимание зрителя обращается к структуре произведения как к философской модели познания.
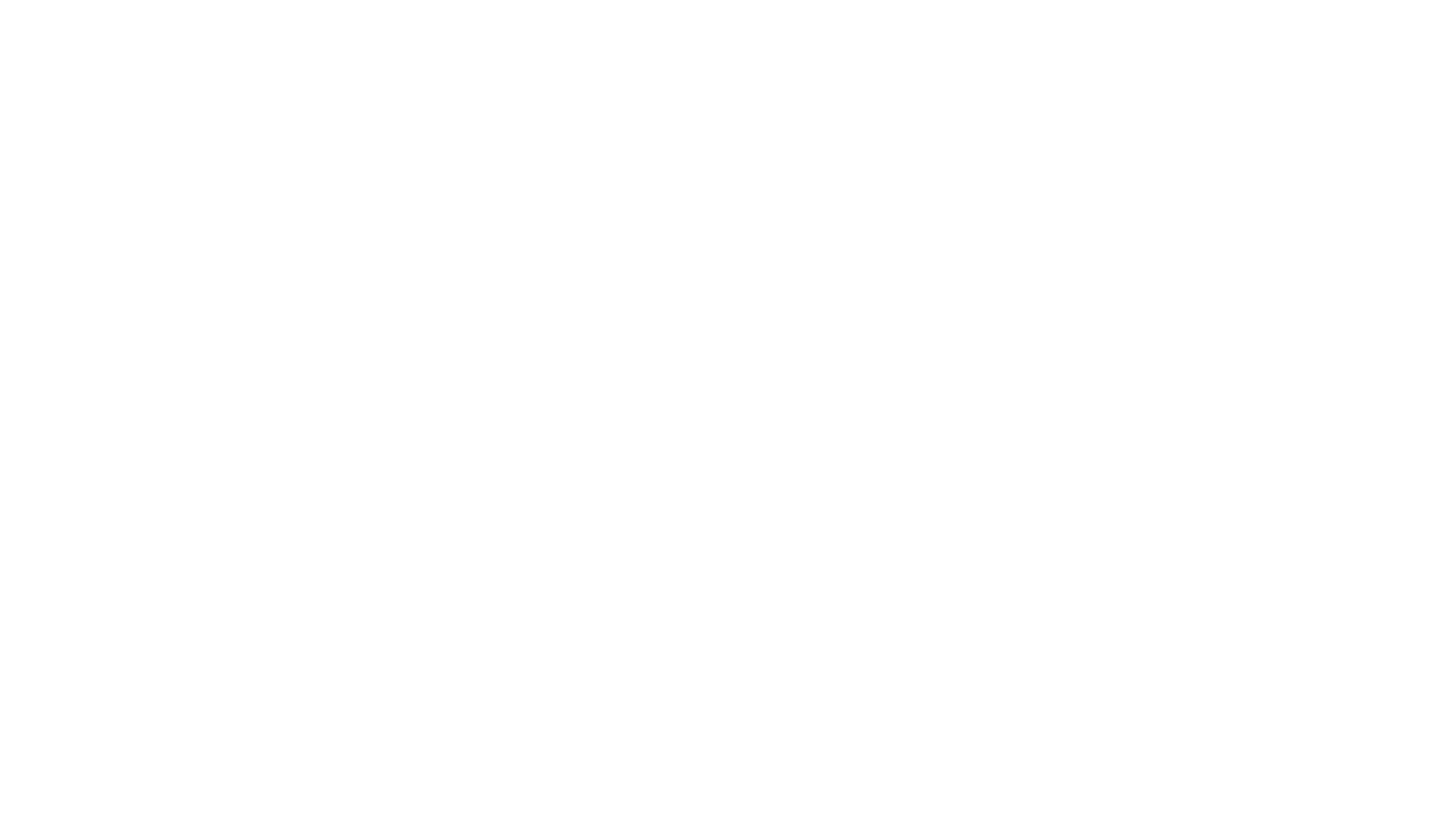
На съемках фильма «Хэппи-энд» (2017)
ТЕХНИКИ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИВНОСТИ
Для кинематографического модернизма характерны две рефлексивные техники, которые условно можно назвать «мягкой» и «агрессивной»: если первая способствует тому, чтобы в центре внимания смотрящего оказался сам фильм как художественная конструкция, то вторая — чтобы зритель ощутил к ней сопричастность через метатекстуальные связи. Короче говоря, «мягкая» рефлексивность создает дистанцию между фильмом и зрителем, а «агрессивная» — подчеркивает его близость к нему. Наиболее яркий пример использования первой техники мы встречаем в фильмах Робера Брессона, в которых к интенсивному изучению устройства кадров и их взаимосвязи подталкивают долгие общие планы и скрытые под плотным и сложным звукорядом визуальные образы. Второй — в кинематографе Жана-Люка Годара, чей визуальный код строится на фундаменте истории кино и литературы.
Особую позицию по отношению к ним занимают фильмы Михаэля Ханеке. Включая в изобразительную ткань своих картин медиальные объекты и образы, формирующие повседневный ментальный опыт представителя постиндустриального общества, он умышленно фрагментирует повествование и обнаруживает течение времени в пространстве кадра, чтобы дезориентировать и встревожить зрителя, привыкшего к жанровой предопределенности и денежно гарантированным удовольствиям.
Особую позицию по отношению к ним занимают фильмы Михаэля Ханеке. Включая в изобразительную ткань своих картин медиальные объекты и образы, формирующие повседневный ментальный опыт представителя постиндустриального общества, он умышленно фрагментирует повествование и обнаруживает течение времени в пространстве кадра, чтобы дезориентировать и встревожить зрителя, привыкшего к жанровой предопределенности и денежно гарантированным удовольствиям.
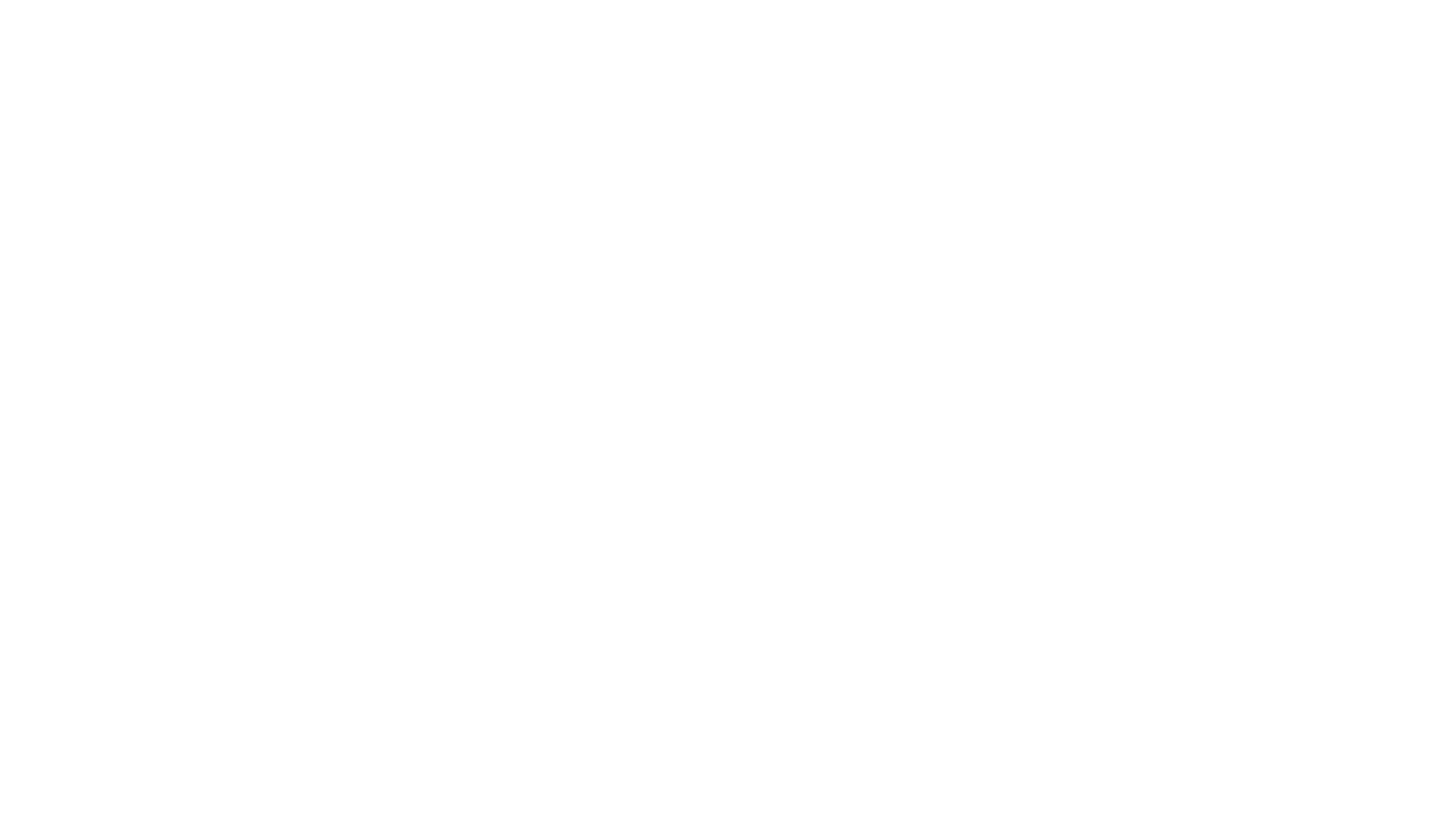
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БУРЖУАЗНОГО КИНО
Утрата чувства реальности, усиливающая «игровой» интерес к немотивированному насилию, занимает центральное место в поэтике режиссера.
В своем эссе «Жестокость и медиа», опубликованном в 1995 году, Ханеке, ополчившись на форму репрезентации насилия в средствах массовой информации, описывает кинематограф как медиум, имеющий несравнимые с другими видами искусства средства для визуализации и имитирования реальности, а значит — несущий огромную ответственность за формирование нашего восприятия жестокости. Благодаря монументальности изображений, высокой скорости смены кадров и одновременному захвату зрения и слуха зрителя, кино подавляет смотрящего, что предопределяет «наркотическое, т. е. антирефлексивное восприятие» фильма. По мнению режиссера, для традиционных изобразительных искусств характерно столкновение с последствиями насилия, что способствует солидаризации с его жертвой. Кино, напротив, делает нас «невинными соучастниками» процесса причинения боли. «Суррогатное действие, — пишет Ханеке, — изгоняет ужас реальности; мифический способ повествования и эстетизирующий [насилие] способ репрезентации позволяют безопасно освободиться [зрителю] от собственных страхов и желаний. Экранный герой превосходит беспомощность и бессилие зрителя своими достижениями. Продавец, который определяет и производит фильм как товар, знает, что насилие — это всего лишь хорошая сделка, когда оно лишено истинной меры его существования в реальности: глубоко сбивающего с толку страха боли и страданий». Безответственная демонстрация жестокости в новостных телепередачах или в жанровом кино опасно сближают ее с действительно существующим в обществе насилием. Образы уравниваются в своем статусе и становятся неразличимыми по уровню интенсивности воздействия — так, например, видеозапечатление войны в Косово или батальные сцены в «Апокалипсисе сегодня» приобретают одинаковый онтологический статус.
Трудность в определении границ между киноизображением и реальностью фиксировалась с первых лет существования кинематографа. Чтобы эмоционально обезопасить потребителя фильмов, буржуазные производители с помощью жанровых условностей «боевика», «триллера», «ужаса» и т. д. «одомашнили» насилие «по его образу и подобию». Ханеке считает, что осуществляемый таким образом «призыв зла позволил надеяться на его управляемость в реальности». Однако страх и волнение, вводимые режиссерами фильмов в «гомеопатических дозах», постепенно сделали их инстинктивно желаемыми.
Телевидение, ставшее неотъемлемой частью быта европейцев среднего класса с 1960-х гг., увеличило скорость показа образов и начало применять весь арсенал кинематографических трюков, чтобы сформировать устойчивое внимание зрителя к рынку товаров и информации, вшивая в ткань повседневности тысячи аффектирующих объектов. Это привело к усилению чувства безопасности и изолированности потребителя, поскольку все без исключения объекты и события стали восприниматься как вымышленные, т. е. поддающиеся неограниченной манипуляции. «Соотношение формы и содержания классической эстетики, судя по всему, устарело. Мораль продажи имеет мало общего с моралью возможного общественного договора», — заключает Ханеке.
По мысли режиссера, в условиях постмодернистской культуры кино, все еще чувствующее свою ответственность за диалог со зрителем, должно обратиться к модернистским выразительным средствам, способствующим обнаружению концептуального видения насилия на экране, и продемонстрировать смотрящему его позицию по отношению к содержащейся в фильме жестокости. Иными словами, лишить его вуайрестического удовольствия и вызвать проявление негативных эмоций к конкретному визуальному явлению.
В своем эссе «Жестокость и медиа», опубликованном в 1995 году, Ханеке, ополчившись на форму репрезентации насилия в средствах массовой информации, описывает кинематограф как медиум, имеющий несравнимые с другими видами искусства средства для визуализации и имитирования реальности, а значит — несущий огромную ответственность за формирование нашего восприятия жестокости. Благодаря монументальности изображений, высокой скорости смены кадров и одновременному захвату зрения и слуха зрителя, кино подавляет смотрящего, что предопределяет «наркотическое, т. е. антирефлексивное восприятие» фильма. По мнению режиссера, для традиционных изобразительных искусств характерно столкновение с последствиями насилия, что способствует солидаризации с его жертвой. Кино, напротив, делает нас «невинными соучастниками» процесса причинения боли. «Суррогатное действие, — пишет Ханеке, — изгоняет ужас реальности; мифический способ повествования и эстетизирующий [насилие] способ репрезентации позволяют безопасно освободиться [зрителю] от собственных страхов и желаний. Экранный герой превосходит беспомощность и бессилие зрителя своими достижениями. Продавец, который определяет и производит фильм как товар, знает, что насилие — это всего лишь хорошая сделка, когда оно лишено истинной меры его существования в реальности: глубоко сбивающего с толку страха боли и страданий». Безответственная демонстрация жестокости в новостных телепередачах или в жанровом кино опасно сближают ее с действительно существующим в обществе насилием. Образы уравниваются в своем статусе и становятся неразличимыми по уровню интенсивности воздействия — так, например, видеозапечатление войны в Косово или батальные сцены в «Апокалипсисе сегодня» приобретают одинаковый онтологический статус.
Трудность в определении границ между киноизображением и реальностью фиксировалась с первых лет существования кинематографа. Чтобы эмоционально обезопасить потребителя фильмов, буржуазные производители с помощью жанровых условностей «боевика», «триллера», «ужаса» и т. д. «одомашнили» насилие «по его образу и подобию». Ханеке считает, что осуществляемый таким образом «призыв зла позволил надеяться на его управляемость в реальности». Однако страх и волнение, вводимые режиссерами фильмов в «гомеопатических дозах», постепенно сделали их инстинктивно желаемыми.
Телевидение, ставшее неотъемлемой частью быта европейцев среднего класса с 1960-х гг., увеличило скорость показа образов и начало применять весь арсенал кинематографических трюков, чтобы сформировать устойчивое внимание зрителя к рынку товаров и информации, вшивая в ткань повседневности тысячи аффектирующих объектов. Это привело к усилению чувства безопасности и изолированности потребителя, поскольку все без исключения объекты и события стали восприниматься как вымышленные, т. е. поддающиеся неограниченной манипуляции. «Соотношение формы и содержания классической эстетики, судя по всему, устарело. Мораль продажи имеет мало общего с моралью возможного общественного договора», — заключает Ханеке.
По мысли режиссера, в условиях постмодернистской культуры кино, все еще чувствующее свою ответственность за диалог со зрителем, должно обратиться к модернистским выразительным средствам, способствующим обнаружению концептуального видения насилия на экране, и продемонстрировать смотрящему его позицию по отношению к содержащейся в фильме жестокости. Иными словами, лишить его вуайрестического удовольствия и вызвать проявление негативных эмоций к конкретному визуальному явлению.
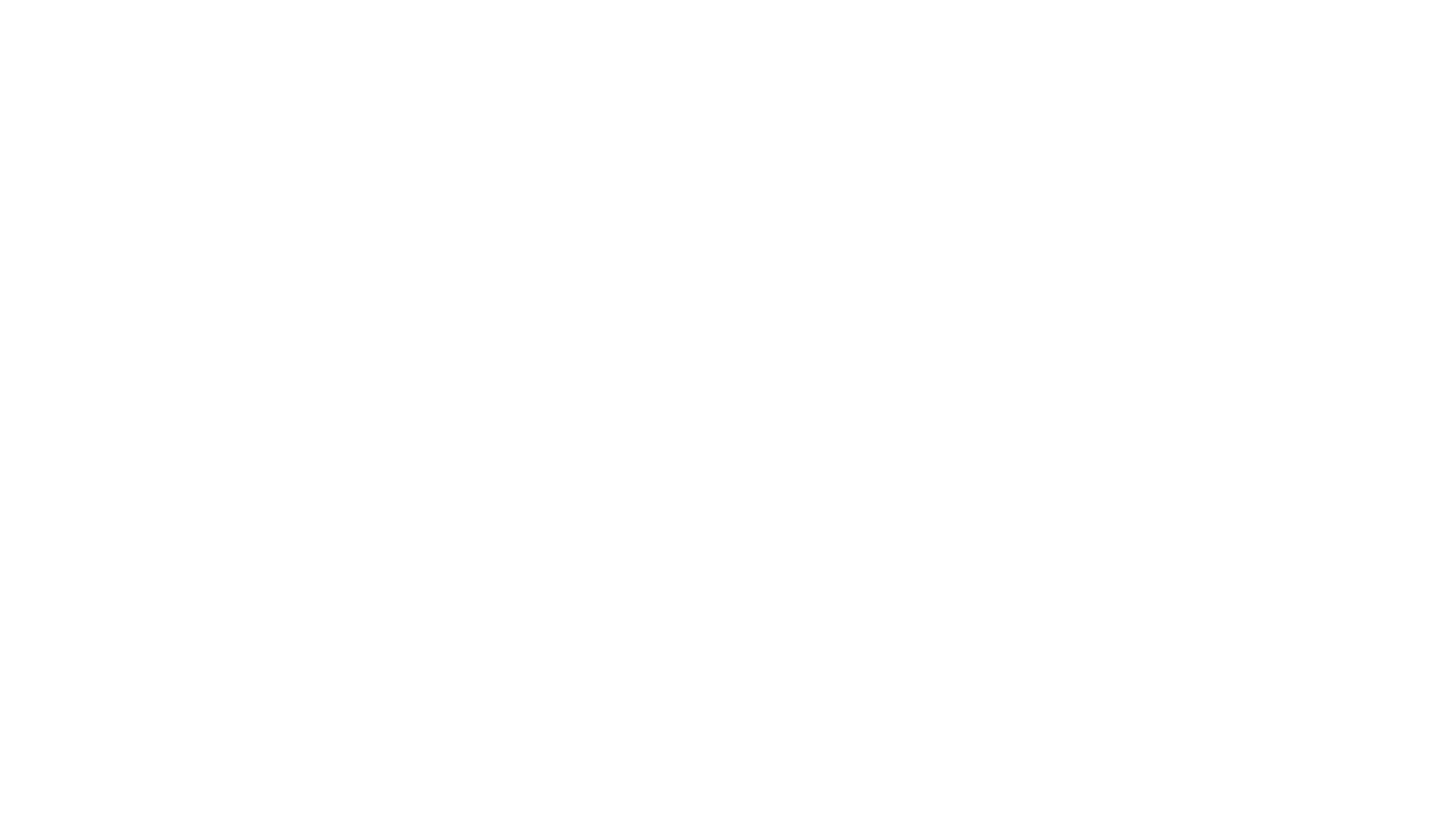
ВЫТЕСНЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕХНИКОЙ
По фильмографии Ханеке, начиная с первого полнометражного фильма «Седьмой континент» и заканчивая «Хэппи-эндом», можно проследить эволюционный путь, который прошли технологии и средства массовой информации с конца 1980-х гг. до наших дней, а вместе с ними — коммуникационное отчуждение представителей постиндустриального общества и формы сопровождающего его явного и скрытого насилия.
Семья Лоран в «Седьмом континенте» была показана как группа людей, дегуманизированная порядком потребительского способа производства. Неспособные верить в бога и искренне проявлять любовь, они выбирают все вместе, отравившись сильно действующими лекарствами, уйти из жизни. Перед этим они с той же методичностью, с какой ходили на работу, вели домашнее хозяйство и бизнес, уничтожают накопленное ими имущество. В конце фильма камера находит их безжизненные тела в холодном синем свете перед экраном телевизора, работающем на мертвом канале. Главный герой «Видео Бенни», безэмоциональный подросток из буржуазной семьи, завороженный подробностями убийства свиньи, заснятыми домашней камерой на родительской ферме, точно таким же способом убивает у себя дома девочку из рабочего класса. Его родители, обеспокоенные сохранением собственности и социального статуса, стараются со всей расчетливостью буржуа скрыть следы преступления.
В «71 фрагменте хронологии случайностей» студент военного училища, однажды спровоцированный невозможностью расплатиться по кредитке на автозаправке, врывается в банк, находящийся на соседней улице, и расстреливает его случайных посетителей, после чего кончает с собой. Визуальный ряд фильма построен из непродолжительных монтажных кусков, снятых преимущественно неподвижной камерой, благодаря которым мы понимаем, что до отчаянного поступка парня доводит многолетняя фрустрация, вызванная полной подчиненностью его жизни механике: теннисным тренировкам с автоматическим метателем мячей, отслеживанию ошибок в движениях при помощи видеокамер, компьютерным головоломкам и т. д. Завершающие австрийский период творчества Ханеке «Забавные игры» апеллируют всем арсеналом деконструкторских техник повествования, давая полный карт-бланш двум молодым садистам, взявшим в плен буржуазное семейство, приехавшее отдохнуть за город, издеваться над благонравными ожиданиями зрителей и уличать их в потворстве происходящим зверствам. Называя друг друга именами вымышленных героев (Бивисом и Баттхедом, Томом и Джерри), они обозначают свою культурную генеалогию как медиальных существ. Две последующие французские картины режиссера, «Код неизвестен» и «Скрытое», исследовали «колониальный синдром» жителей европейской метрополии при помощи моделирования эффекта слежки за главными героями картин (актрисой и телеведущим) через скрытую (кино)камеру.
Удваивая медийное изображение, т. е. снимая проецируемое на диегетическом экране видео, Ханеке устанавливает фундаментальное эпистемологическое различие между ним и фильмом. Так в «трилогии оледенения» пространственная глубина и временная целостность кинокадров резко контрастируют с плоскостью видеоизображений и нервным монтажом телепередач. Кажется, что нивелирующее многоуровневость реальности видео, подобно вирусу, заражает собой фильм, угрожая его эпистемологическому верховенству. Структурное отчуждение действия фильмов должно стать противоядием от деструктивного влияния агрессивных видео-образов.
Подобный подход, отказывающий себе в вынесении моральных оценок и объяснении психологических и социальных причин разыгрываемых сцен, устанавливает сложную связь моральной холодности персонажей с технологиями видеоизображения. Можно сказать, что именно они приводят к изменению нравственной конституции личности и в дальнейшем — всей ценностной структуры общества. Будто бы следуя за пессимистической логикой ситуационистского анализа «общества спектакля», согласно которому медиальная среда перестраивает реальность по образу и подобию своего зрительного порядка, Ханеке утверждает прямую детерминированность современной аутической субъективности структурой функционирования медиа технологий. Дело усугубляется и тем, что качественное улучшение видео полностью нивелирует различие между ним и киносъемкой, в чем мы можем убедиться, посмотрев «Скрытое». Главная интрига фильма, — кто организовал слежку за семьей телеведущего? — никогда не будет разрешена, поскольку взгляд режиссерской камеры, которому раньше отводилась роль проводника отстраненной истины, стало очень трудно отделить от взгляда других регистрирующих движение устройств.
В своем мрачном пророчестве «Время волков» (2003) Ханеке предсказывает дезориентированность, хозяйственную слабость, быстрое одичание и ритуализацию общества в случае остановки выработки электроэнергии. Ценой прогресса становится полная зависимость воли индивида от технологий. Похожими настроениями пропитана философия американского антрополога-анархиста Джона Зерзана. «Пока мы все больше и больше отчуждаемся от собственного опыта, подвергаемого обработке, нормированию, категоризации и подчинению иерархическому контролю, — пишет мыслитель в своем эссе „Психология масс и страдание“, — технология все отчетливее обнаруживает себя как сила, ответственная за наше страдание, как важнейшая форма идеологического господства. В реальности технология замещает собой идеологию».
Показывая изолированное бытие буржуазии в частных домах и просторных квартирах, Ханеке критикует немотивированное насилие как «очень буржуазную вещь» — проверку на «чужаках» реальности впитанных под кожу изображений в целях утверждения прав собственности. Образы «чужаков» в классовых системах обычно иерархиезируются так, что дети, женщины и животные оказываются в самом низу мыслительной цепочки (недаром они оказываются основными жертвами насилия в фильмах режиссера). Корни этих процессов Зерзан видит в одомашнивании — поворотном моменте в истории развития человечества, сопровождавшимся первичным разделением труда, углублением половых различий, выделением знати и господ, чьи притязания на сохранение власти оказали решающее влияние на формирование символической (дисциплинирующей) культуры. В таком контексте тезис Ханеке об «одомашненном» кинематографическими жанрами насилии можно, учитывая все «но», истолковать радикально — как символизацию жестокости, отрывающую ее от непосредственного эмоционального опыта человека. Ставшее отдельным «развлекательным» феноменом в обескровленном прогрессом мире, насилие, запускающее в кино уникальное развитие героического нарратива, приобретает в среде господствующих классов порочный ореол «желания» проверить и утвердить право собственности на безопасное герметическое существование.
Семья Лоран в «Седьмом континенте» была показана как группа людей, дегуманизированная порядком потребительского способа производства. Неспособные верить в бога и искренне проявлять любовь, они выбирают все вместе, отравившись сильно действующими лекарствами, уйти из жизни. Перед этим они с той же методичностью, с какой ходили на работу, вели домашнее хозяйство и бизнес, уничтожают накопленное ими имущество. В конце фильма камера находит их безжизненные тела в холодном синем свете перед экраном телевизора, работающем на мертвом канале. Главный герой «Видео Бенни», безэмоциональный подросток из буржуазной семьи, завороженный подробностями убийства свиньи, заснятыми домашней камерой на родительской ферме, точно таким же способом убивает у себя дома девочку из рабочего класса. Его родители, обеспокоенные сохранением собственности и социального статуса, стараются со всей расчетливостью буржуа скрыть следы преступления.
В «71 фрагменте хронологии случайностей» студент военного училища, однажды спровоцированный невозможностью расплатиться по кредитке на автозаправке, врывается в банк, находящийся на соседней улице, и расстреливает его случайных посетителей, после чего кончает с собой. Визуальный ряд фильма построен из непродолжительных монтажных кусков, снятых преимущественно неподвижной камерой, благодаря которым мы понимаем, что до отчаянного поступка парня доводит многолетняя фрустрация, вызванная полной подчиненностью его жизни механике: теннисным тренировкам с автоматическим метателем мячей, отслеживанию ошибок в движениях при помощи видеокамер, компьютерным головоломкам и т. д. Завершающие австрийский период творчества Ханеке «Забавные игры» апеллируют всем арсеналом деконструкторских техник повествования, давая полный карт-бланш двум молодым садистам, взявшим в плен буржуазное семейство, приехавшее отдохнуть за город, издеваться над благонравными ожиданиями зрителей и уличать их в потворстве происходящим зверствам. Называя друг друга именами вымышленных героев (Бивисом и Баттхедом, Томом и Джерри), они обозначают свою культурную генеалогию как медиальных существ. Две последующие французские картины режиссера, «Код неизвестен» и «Скрытое», исследовали «колониальный синдром» жителей европейской метрополии при помощи моделирования эффекта слежки за главными героями картин (актрисой и телеведущим) через скрытую (кино)камеру.
Удваивая медийное изображение, т. е. снимая проецируемое на диегетическом экране видео, Ханеке устанавливает фундаментальное эпистемологическое различие между ним и фильмом. Так в «трилогии оледенения» пространственная глубина и временная целостность кинокадров резко контрастируют с плоскостью видеоизображений и нервным монтажом телепередач. Кажется, что нивелирующее многоуровневость реальности видео, подобно вирусу, заражает собой фильм, угрожая его эпистемологическому верховенству. Структурное отчуждение действия фильмов должно стать противоядием от деструктивного влияния агрессивных видео-образов.
Подобный подход, отказывающий себе в вынесении моральных оценок и объяснении психологических и социальных причин разыгрываемых сцен, устанавливает сложную связь моральной холодности персонажей с технологиями видеоизображения. Можно сказать, что именно они приводят к изменению нравственной конституции личности и в дальнейшем — всей ценностной структуры общества. Будто бы следуя за пессимистической логикой ситуационистского анализа «общества спектакля», согласно которому медиальная среда перестраивает реальность по образу и подобию своего зрительного порядка, Ханеке утверждает прямую детерминированность современной аутической субъективности структурой функционирования медиа технологий. Дело усугубляется и тем, что качественное улучшение видео полностью нивелирует различие между ним и киносъемкой, в чем мы можем убедиться, посмотрев «Скрытое». Главная интрига фильма, — кто организовал слежку за семьей телеведущего? — никогда не будет разрешена, поскольку взгляд режиссерской камеры, которому раньше отводилась роль проводника отстраненной истины, стало очень трудно отделить от взгляда других регистрирующих движение устройств.
В своем мрачном пророчестве «Время волков» (2003) Ханеке предсказывает дезориентированность, хозяйственную слабость, быстрое одичание и ритуализацию общества в случае остановки выработки электроэнергии. Ценой прогресса становится полная зависимость воли индивида от технологий. Похожими настроениями пропитана философия американского антрополога-анархиста Джона Зерзана. «Пока мы все больше и больше отчуждаемся от собственного опыта, подвергаемого обработке, нормированию, категоризации и подчинению иерархическому контролю, — пишет мыслитель в своем эссе „Психология масс и страдание“, — технология все отчетливее обнаруживает себя как сила, ответственная за наше страдание, как важнейшая форма идеологического господства. В реальности технология замещает собой идеологию».
Показывая изолированное бытие буржуазии в частных домах и просторных квартирах, Ханеке критикует немотивированное насилие как «очень буржуазную вещь» — проверку на «чужаках» реальности впитанных под кожу изображений в целях утверждения прав собственности. Образы «чужаков» в классовых системах обычно иерархиезируются так, что дети, женщины и животные оказываются в самом низу мыслительной цепочки (недаром они оказываются основными жертвами насилия в фильмах режиссера). Корни этих процессов Зерзан видит в одомашнивании — поворотном моменте в истории развития человечества, сопровождавшимся первичным разделением труда, углублением половых различий, выделением знати и господ, чьи притязания на сохранение власти оказали решающее влияние на формирование символической (дисциплинирующей) культуры. В таком контексте тезис Ханеке об «одомашненном» кинематографическими жанрами насилии можно, учитывая все «но», истолковать радикально — как символизацию жестокости, отрывающую ее от непосредственного эмоционального опыта человека. Ставшее отдельным «развлекательным» феноменом в обескровленном прогрессом мире, насилие, запускающее в кино уникальное развитие героического нарратива, приобретает в среде господствующих классов порочный ореол «желания» проверить и утвердить право собственности на безопасное герметическое существование.
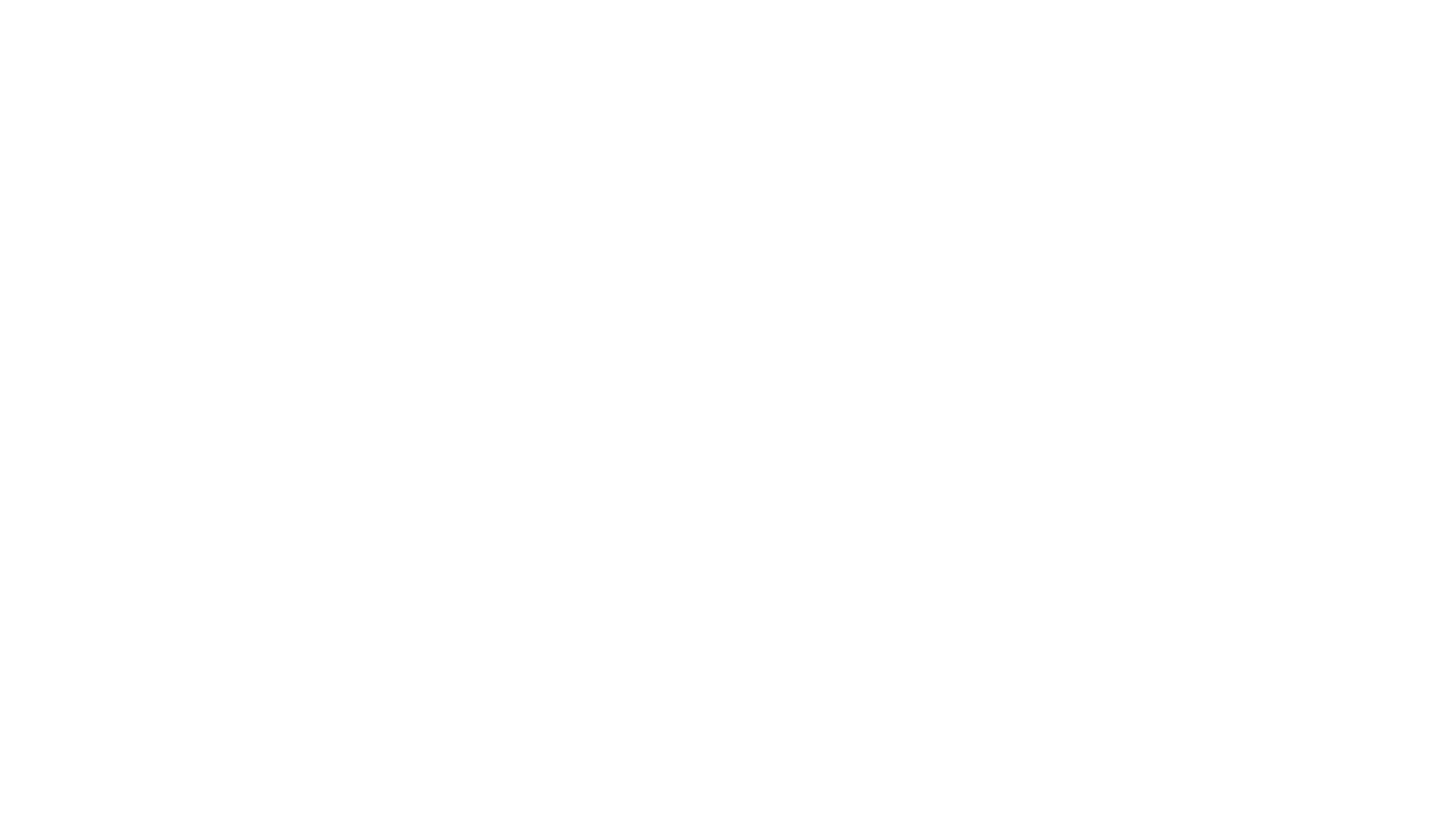
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ТИШИНА
«Хэппи-энд», последний на данный момент фильм Ханеке, включает в себя весь набор типажей, созданный режиссером в предыдущих картинах, цементируя сюжет, чтобы начать разговор об интернет-технологиях, «в какой-то степени взявших на себя [сегодня] роль церкви».
В центре повествования находится семья Лоран, владеющая строительной корпорацией и имеющая связи по всему миру. Деловой успех и буржуазная благообразность, тем не менее, всего лишь маскируют жестокие и черствые души ее членов. Старик Жорж, отец семейства, скрывает от домочадцев тот факт, что он задушил свою супругу, не выдержав ее предсмертных мук. Собственная жизнь ему опостылела не в меньшей степени, и на протяжении всего фильма он будет искать человека, способного помочь ему расстаться с ней. Его дочь Анна, выполняющая обязанности по управлению бизнесом, после случившейся аварии на строительном объекте, унесшей жизни нескольких человек, без видимых мук совести откупается от родственников пострадавших мигрантов. Скандалы и «черный пиар» не должны расстроить ее грядущую свадьбу с менеджером нефтяной компании Shell. Неуравновешенный и пьющий сын Анны Пьер, в день аварии курировавший работу на объекте, после случившегося впадает в глубокую депрессию. Внутренняя боль подталкивает его отомстить лицемерным родственникам. Врываясь на устраиваемые ими праздничные вечера по случаю дня рождения дедушки или празднования маминой помолвки, он провокативно называет домашнюю прислугу, состоящую из магрибов, «рабами» или приводит в шикарный зал чернокожих парней из рабочего класса. Хирург Тома, второй ребенок Жоржа, втайне от своей новой супруги заводит садомазохистские отношения с известной виолончелисткой. Вероятно, ему невдомек, что нервные припадки первой жены, сподвигшие его на развод, стали следствием супружеской неверности. Их двенадцатилетняя дочь Ева, глубоко подавленная и обозленная маминой депрессией, в конечном итоге решается отравить родительницу. В прямом эфире Snapchat’а она будет равнодушно транслировать сцены ее мучений. Таким образом, композиция замыкается: ребенок и старик сближаются в общем стремлении к смерти.
Проекции диджитал-пространств (стриминга, чатов, телефонной видеосъемки), открывающих и закрывающих фильм, в отличие от предшествующих им медиа технологий (телепередач, фильмов и домашних съемок), насыщавших реальность неуправляемыми желаниями, создают сложное исповедальное пространство, позволяющее автоматически комментировать переживаемый опыт на узкую или широкую аудиторию. При помощи Snapchat’а Ева очерчивает повторяющиеся изо дня в день повседневные действия мамы, насквозь пропитанные нанесенной ей травмой. Отныне машина не безучастна. Сторонним вниманием она стимулирует пользователя разыгрывать ситуации, формирующие его уникальный цифровой статус из единственно доступного в потребительском обществе материала — быта. Под опосредованным техникой взглядом девочки ее новорожденный брат приобретает функциональную значимость — стать заменой погибшему в младенчестве ребенку Томы от первого брака. Моментальность доставки сообщений в виртуальных чатах обуславливает поэтическую развязность общения отца девочки с любовницей. Отбросив грамматические правила и моральные ограничения, их переписка превращается в исповедь мазохистки господину, не способному подарить своей рабе ничего, кроме боли. Но садист уязвим для ответных ударов. Инстинктивно догадываясь об этом, Ева совершает попытку самоубийства, чтобы поставить отцу условие — обеспечить ей место в доме Лоранов в случае очередного развода.
Убийство Жоржем жены в «Любви», воспринятое мировой критикой как слово в пользу правового закрепления эвтаназии, в «Хэппи-энде» интерпретируется заново в духе черной комедии. Постепенно впадающий в маразм (или всего-навсего притворяющийся маразматиком), но не утративший вкуса к еде, выпивке, музыке и красивым молодым женщинам, старик не может свести с собой счеты, поскольку все члены общества, представляющие угрозу буржуазному господству, и механизмы оказываются обезвреженными. Маленький автомобиль, направленный рукой Жоржа в стену, оказывается недостаточно быстрым для фатального столкновения — подушки безопасности сохраняют самоубийце жизнь, хоть и ценой нескольких сломанных костей. Чернокожие мигранты боятся подступиться к белому господину, просящему в обмен на дорогие часы отвезти его, сидящего на инвалидном кресле, к морю. Парикмахер и цирюльник, хлопочущий над внешним видом богатеев, не решается заключить сделку с Жоржем и принести ему оружие. Только остраняющая действительность посредством камеры телефона Ева оказывается в силах выйти с дедушкой к воде в самый разгар тетиного праздника.
Вместе с собой Жорж топит в море звуки музыки, человеческих голосов и шум предметов. Точно так же, как уничтожила их в себе его умирающая супруга, заполнив пустоту общего герметичного пространства чудовищными стонами. Взгляд на смерть как способ восстановления искомой в собственности тишины задает ограничивающий и тормозящий волю субъектов характер медиа технологий. Анна, бегущая спасать отца, остановится, увидев Еву с телефоном в руках. Само построение последней сцены «Хэппи-энда» раскрывает двойную иронию над буржуазной концепцией счастья, подвергнутой суровой критике еще в «Седьмом континенте» посредством анимированного снимка мифической Австралии. Автономный от природы мир, построенный буржуазией на фундаменте технологической революции, словно жаждет снова столкнуться с пожирающей все живое стихией.
Собственноручно предаться разрушению созданных благ, осознавая со старческой проницательностью пределы роста капитала, в механизированном порядке которого невыносимость существования становится очевидна. Оплаченный ростом классового неравенства, экологических угроз и немотивированного насилия потребительский комфорт первого мира нуждается для своего воспроизводства в иррациональной эстетизации апокалипсиса и смерти. Холодная приверженность духу танатоса помогает капиталу удержать свою власть над реальностью, постоянно ускользающей из-под его контроля, и защититься от последствий непрерывно ведущейся в низах общества «гражданской войны», спровоцированной буржуазией в период первоначального накопления и поддерживаемой до сегодняшнего дня неоколониальными амбициями государств центра.
В центре повествования находится семья Лоран, владеющая строительной корпорацией и имеющая связи по всему миру. Деловой успех и буржуазная благообразность, тем не менее, всего лишь маскируют жестокие и черствые души ее членов. Старик Жорж, отец семейства, скрывает от домочадцев тот факт, что он задушил свою супругу, не выдержав ее предсмертных мук. Собственная жизнь ему опостылела не в меньшей степени, и на протяжении всего фильма он будет искать человека, способного помочь ему расстаться с ней. Его дочь Анна, выполняющая обязанности по управлению бизнесом, после случившейся аварии на строительном объекте, унесшей жизни нескольких человек, без видимых мук совести откупается от родственников пострадавших мигрантов. Скандалы и «черный пиар» не должны расстроить ее грядущую свадьбу с менеджером нефтяной компании Shell. Неуравновешенный и пьющий сын Анны Пьер, в день аварии курировавший работу на объекте, после случившегося впадает в глубокую депрессию. Внутренняя боль подталкивает его отомстить лицемерным родственникам. Врываясь на устраиваемые ими праздничные вечера по случаю дня рождения дедушки или празднования маминой помолвки, он провокативно называет домашнюю прислугу, состоящую из магрибов, «рабами» или приводит в шикарный зал чернокожих парней из рабочего класса. Хирург Тома, второй ребенок Жоржа, втайне от своей новой супруги заводит садомазохистские отношения с известной виолончелисткой. Вероятно, ему невдомек, что нервные припадки первой жены, сподвигшие его на развод, стали следствием супружеской неверности. Их двенадцатилетняя дочь Ева, глубоко подавленная и обозленная маминой депрессией, в конечном итоге решается отравить родительницу. В прямом эфире Snapchat’а она будет равнодушно транслировать сцены ее мучений. Таким образом, композиция замыкается: ребенок и старик сближаются в общем стремлении к смерти.
Проекции диджитал-пространств (стриминга, чатов, телефонной видеосъемки), открывающих и закрывающих фильм, в отличие от предшествующих им медиа технологий (телепередач, фильмов и домашних съемок), насыщавших реальность неуправляемыми желаниями, создают сложное исповедальное пространство, позволяющее автоматически комментировать переживаемый опыт на узкую или широкую аудиторию. При помощи Snapchat’а Ева очерчивает повторяющиеся изо дня в день повседневные действия мамы, насквозь пропитанные нанесенной ей травмой. Отныне машина не безучастна. Сторонним вниманием она стимулирует пользователя разыгрывать ситуации, формирующие его уникальный цифровой статус из единственно доступного в потребительском обществе материала — быта. Под опосредованным техникой взглядом девочки ее новорожденный брат приобретает функциональную значимость — стать заменой погибшему в младенчестве ребенку Томы от первого брака. Моментальность доставки сообщений в виртуальных чатах обуславливает поэтическую развязность общения отца девочки с любовницей. Отбросив грамматические правила и моральные ограничения, их переписка превращается в исповедь мазохистки господину, не способному подарить своей рабе ничего, кроме боли. Но садист уязвим для ответных ударов. Инстинктивно догадываясь об этом, Ева совершает попытку самоубийства, чтобы поставить отцу условие — обеспечить ей место в доме Лоранов в случае очередного развода.
Убийство Жоржем жены в «Любви», воспринятое мировой критикой как слово в пользу правового закрепления эвтаназии, в «Хэппи-энде» интерпретируется заново в духе черной комедии. Постепенно впадающий в маразм (или всего-навсего притворяющийся маразматиком), но не утративший вкуса к еде, выпивке, музыке и красивым молодым женщинам, старик не может свести с собой счеты, поскольку все члены общества, представляющие угрозу буржуазному господству, и механизмы оказываются обезвреженными. Маленький автомобиль, направленный рукой Жоржа в стену, оказывается недостаточно быстрым для фатального столкновения — подушки безопасности сохраняют самоубийце жизнь, хоть и ценой нескольких сломанных костей. Чернокожие мигранты боятся подступиться к белому господину, просящему в обмен на дорогие часы отвезти его, сидящего на инвалидном кресле, к морю. Парикмахер и цирюльник, хлопочущий над внешним видом богатеев, не решается заключить сделку с Жоржем и принести ему оружие. Только остраняющая действительность посредством камеры телефона Ева оказывается в силах выйти с дедушкой к воде в самый разгар тетиного праздника.
Вместе с собой Жорж топит в море звуки музыки, человеческих голосов и шум предметов. Точно так же, как уничтожила их в себе его умирающая супруга, заполнив пустоту общего герметичного пространства чудовищными стонами. Взгляд на смерть как способ восстановления искомой в собственности тишины задает ограничивающий и тормозящий волю субъектов характер медиа технологий. Анна, бегущая спасать отца, остановится, увидев Еву с телефоном в руках. Само построение последней сцены «Хэппи-энда» раскрывает двойную иронию над буржуазной концепцией счастья, подвергнутой суровой критике еще в «Седьмом континенте» посредством анимированного снимка мифической Австралии. Автономный от природы мир, построенный буржуазией на фундаменте технологической революции, словно жаждет снова столкнуться с пожирающей все живое стихией.
Собственноручно предаться разрушению созданных благ, осознавая со старческой проницательностью пределы роста капитала, в механизированном порядке которого невыносимость существования становится очевидна. Оплаченный ростом классового неравенства, экологических угроз и немотивированного насилия потребительский комфорт первого мира нуждается для своего воспроизводства в иррациональной эстетизации апокалипсиса и смерти. Холодная приверженность духу танатоса помогает капиталу удержать свою власть над реальностью, постоянно ускользающей из-под его контроля, и защититься от последствий непрерывно ведущейся в низах общества «гражданской войны», спровоцированной буржуазией в период первоначального накопления и поддерживаемой до сегодняшнего дня неоколониальными амбициями государств центра.
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Danny Boyle: Interviews. University Press of Mississippi, 2011. P. 11.
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.
Лепроон П. Современные французские кинорежиссеры. М., 1960. С. 263.
Porton R. More Than "Visual Froufrou": The Politics of Passion in the Films of Max Ophuls. Source: Cinéaste, Vol. 35, No. 4 (FALL 2010). P. 8.
Svetov M. Max Ophuls noir’s stealthy modernist. Noir city sentinel. Vol. 2. № 3. 2007. P. 7.
Батлер Д. Заметки к перформативной теории собраний. М., 2018. С. 38.
Tognolotti C. The Representation of Money and the Female Figure in Max Ophuls’ Caught and Lola Montès [Электронный ресурс] URL: https://www.academia.edu/12180260/The_Representation_of_Money_and_the_Female_Figure_in_Max_Ophuls_Caught_and_Lola_Mont%C3%A8s
Svetov M. Max Ophuls noir’s stealthy modernist. Noir city sentinel. Vol. 2. № 3. 2007. P. 7.
Гусев А. Безделица какая-то и тряпка — «Лола Монтес» Макса Офюльса [Электронный ресурс] URL: https://seance.ru/articles/lola-montes/