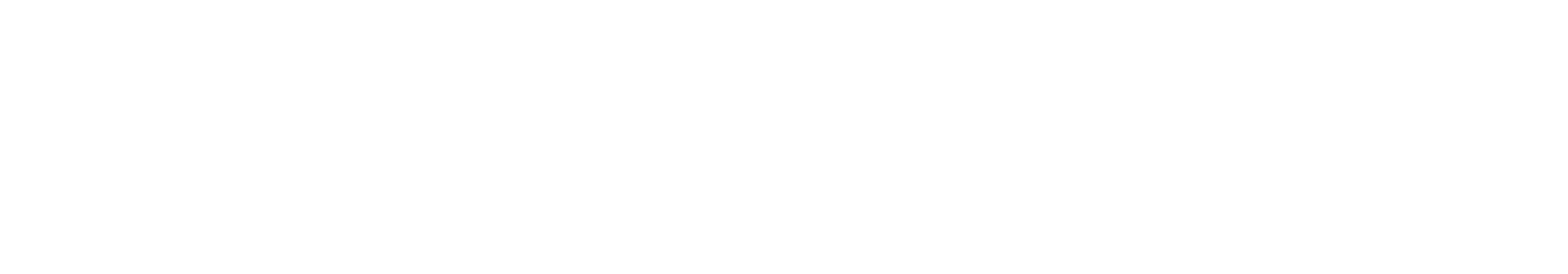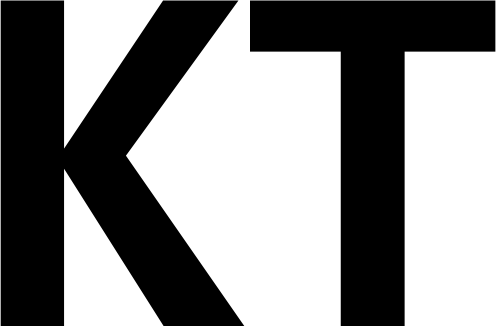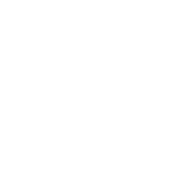ДМИТРИЙ ПОРЕЧНЫЙ | 23 ДЕКАБРЯ 2021
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ НА СЧЕТ КИНОЭКСПЕРИМЕНТА
Как экспериментальное кино связано с документализмом, и почему это действительно важно
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ НА СЧЕТ КИНОЭКСПЕРИМЕНТА
ДМИТРИЙ ПОРЕЧНЫЙ | 23.12.2021
Как экспериментальное кино связано с документализмом, и почему это действительно важно
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ НА СЧЕТ КИНОЭКСПЕРИМЕНТА
ДМИТРИЙ ПОРЕЧНЫЙ | 23.12.2021
Как экспериментальное кино связано с документализмом, и почему это действительно важно
«В эпоху, когда… казалось, что литература и театр принадлежат прогнившему веку, тьму которого рассеивали ниспровергатели старых богов, в момент, когда слово «революция» казалось ключом ко всем проблемам искусства, кино мне представлялось как самое новое средство выражения, меньше всего скомпрометированное в прошлом, одним словом — как средство самое революционное».
Рене Клер / «Размышления о киноискусстве»
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Своим рождением кинематограф обязан эксперименту. Необходимость зафиксировать видимое движение, — этот всеобъемлющий закон бытия, — возбуждала ведущие умы не только художественного, но и, в первую очередь, научного мира. Прежде искусства утверждалась своевольная жизнь, со своими законами, требующими исследовательского упорства; перед всякой художественностью гордо вышагивал объективный научный факт, обогащающий человеческое жизнепонимание. Так, во всяком случае, было с кино.
Именно из научной пытливости, естественного интереса к жизни рождались первые экспериментальные устройства, способные воспроизвести искомое движение: от фенакистископа Плато и вплоть до улучшенного Люмьерами эдисоновского кинетоскопа, названного братьями «cinématographe».
Экспериментальные искания изобретателей во многом предвосхитили будущность киноискусства, предначертав ему способность обращаться в равной мере со звуком и цветом, с пространством и временем — между художником экрана и самой жизнью. Кардинально опередив свое время, Уильям Лори Диксон еще за год до люмьеровского дебюта снимет «Экспериментальный звуковой фильм Диксона», в котором сыграет на скрипке перед громадным звукозаписывающим устройством. А в 1895 году, параллельно с кино-шествием Люмьеров, уже сам Томас Эдисон впервые и собственноручно придаст цвет эмоционально динамичному, почти воздушному в своей естественности «Танцу Лоуи Фуллер».
Поиск формальной выразительности исходно связывался с жизнью, с возможностью всецело представить ее на экране.
Именно из научной пытливости, естественного интереса к жизни рождались первые экспериментальные устройства, способные воспроизвести искомое движение: от фенакистископа Плато и вплоть до улучшенного Люмьерами эдисоновского кинетоскопа, названного братьями «cinématographe».
Экспериментальные искания изобретателей во многом предвосхитили будущность киноискусства, предначертав ему способность обращаться в равной мере со звуком и цветом, с пространством и временем — между художником экрана и самой жизнью. Кардинально опередив свое время, Уильям Лори Диксон еще за год до люмьеровского дебюта снимет «Экспериментальный звуковой фильм Диксона», в котором сыграет на скрипке перед громадным звукозаписывающим устройством. А в 1895 году, параллельно с кино-шествием Люмьеров, уже сам Томас Эдисон впервые и собственноручно придаст цвет эмоционально динамичному, почти воздушному в своей естественности «Танцу Лоуи Фуллер».
Поиск формальной выразительности исходно связывался с жизнью, с возможностью всецело представить ее на экране.
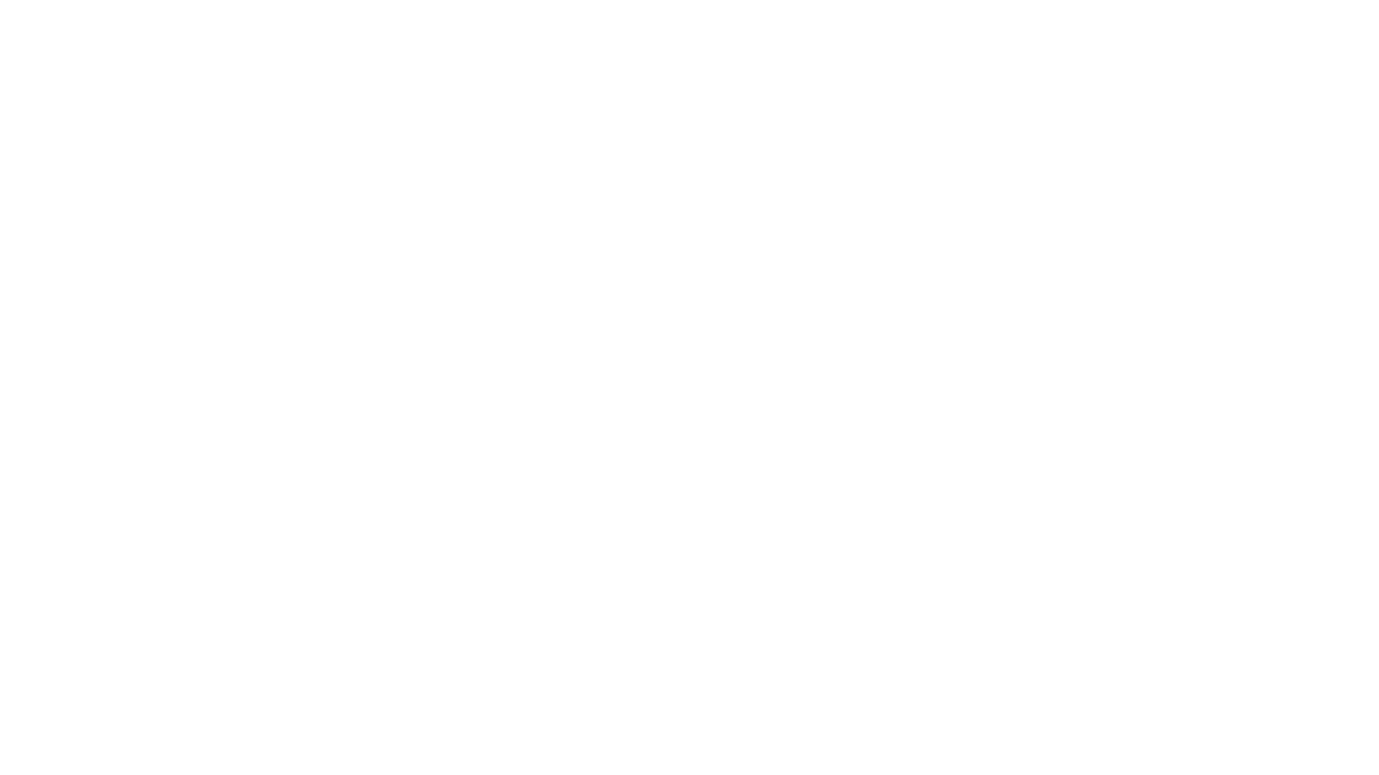
«Ритм 21» (1921) / реж. Ганс Рихтер
НА ПУТИ К ОСОЗНАННОЙ ФОРМЕ
Неспроста Рене Клер осмысливал кино в качестве самого революционного искусства.
Революция, радикальное новаторство лежит у самого его основания. И не столько лежит, сколько двигает, развивает, обогащает инструментарий художественной выразительности экрана.
Так, известные почти каждому зрителю ленты Люмьеров в большинстве своем экспериментальны: у авторов можно обнаружить первые кино-исследования ракурсов и перспективы, первую панораму, первые опыты комбинированной съемки, первые инсценировки, подчас расположенные в пограничном пространстве между «игровой» и «неигровой», первый (пусть и непроизвольный) крупный план.
Все эти известные сегодня формальные элементы киноязыка бессознательно вскрывались благодаря активной деятельности братьев-зачинателей кинематографа, направленной на воспроизведение жизненного движения. Впрочем, иначе и быть не могло! Новое явление требует новых подходов, уникального взгляда, того чистого, еще не осознанного впечатления, какое способно адекватнее его воспринять и усвоить. Сам факт новизны устройства, тесно сопряженный с незнанием, туманными прогнозами и первичным непониманием, автоматически обращает любое кино-действие в эксперимент — искренний и беспристрастный взгляд в новое. С одной стороны, так расширяется объем художественности экрана, с другой — нащупываются примерные его границы. Границы, как показал дальнейший ход истории, весьма пластичные и технически растяжимые. Ибо если «мы не можем наши глаза сделать лучше, чем они сделаны, [то] кино-аппарат мы можем совершенствовать без конца», — считал Дзига Вертов [1].
Революционность кинематографа ощущалась всем телом мировой культуры. Под влиянием первых кино-творцов различные искусства претерпевали явные перемены. Футуристы, будто из зависти к жизненному качеству киноаппарата, стремились повторить видимое движение изобразительными средствами. Впрочем, пока Джакомо Балла всячески искажал свою маленькую собачку на поводке, некоторые художники четко осознавали ограниченность красок и теней на статичном полотне. «Логический шаг, который мы сделали в направлении неограниченного пространства, вытолкнул нас за пределы станковой живописи; мы поняли, что добились больше того, что требовалось — настоящего движения. А движение подразумевает фильм. Тем самым мы установили линию непрерывной традиции, шедшую от Сезанна к кубистам, от абстрактного искусства к кино (в стремлении найти отчетливое выражение абстрактной формы, поскольку она является последним шагом в развитии современного искусства)», — позже напишет дадаист Ганс Рихтер [2]. Художник, к слову, на практике показал верность своих утверждений. В фильме «Ритм 21» (1921) пространство экрана исследуется посредством движения абстрактных геометрических фигур, преодолевших статику живописи. Визуальные возможности кино не обошли стороной и музыку. К примеру, Викинг Эккелинг в 1924 году снимает экспериментальный фильм «Диагональная симфония», в котором исследование контрапунктирования и аналогий перетекает в немую визуальную демонстрацию некоего музыкального произведения (музыку буквально можно было «слышать» через изображение). В этом же ключе творил Оскар Фишингер, который в своих «Этюдах» и «Композиции в синема» смог передать мелодию средствами белого и черного, цветных геометрических форм.
Иными словами, природная экспериментальность кино естественным образом множила революцию не только внутри себя, но и за собственными пределами.
Однако вернемся к исходной позиции.
Формальные искания Люмьеров, обусловленные жизненным материалом, в большинстве своем непрограммны. Это вполне закономерно, поскольку, во-первых, киноаппарат возник из необходимости запечатлеть изменчивую жизнь, а во-вторых, хроника, составляющая большую часть люмьеровских лент, будучи фиксацией движений реального, непременно диктует свои жизненные требования. Уникальные события, происходящие в действительности, невозможно осмыслить априори: каждый раз новые они требуют новых подходов. Эти мысли остро обозначил американский документалист Ричард Ликок в интервью с Гидеоном Бахманом: «…Куда бы вы ни пошли, вас окружают новые явления, происшествия, с которыми вы недостаточно знакомы. Проблема всегда заключается в том, чтобы увидеть это новое и достоверно выразить его» [3].
Отсюда чистота впечатления, неизбежно сказывающаяся на формальном построении, — столь же чистом, неосознанном и экспериментальном. Неспроста Вертов спустя десятилетия откажется видеть в кинематографической специфике «трюкачество», признает все элементы киноязыка как обыкновенные и естественные; адекватные многогранной и противоречивой жизни [4]!
От первого «Выхода рабочих с фабрики» (1895) и вплоть до «Умывания собаки» (1900) ветвилось младенческое, но уже многомерное кино, способное вместить в себя не только другие искусства, подчинив и преодолев их, но и самую жизнь. Однако если Люмьеры связывали объектив с действительностью, подчинялись ей, то Жорж Мельес, принявший творческую эстафету, иначе понял художественный потенциал экрана, подверг первичное впечатление — единственно возможную форму взаимодействия с постоянно меняющейся жизнью, — ясной человеческой осознанности. С откровенных заимствований французский циркач легким (как это и положено циркачам) кульбитом перешел в область самостоятельного, исключительно авторского творчества, первым на практике обосновав созидательные возможности кино. Кинематографические построения мельесовских лент из опытов фиксации жизни, явленных в фильме «Партия в карты» (1896), резко перешли в область человеческого воображения — к чистой фантазии. Жизнь, подлинная и реальная, отнюдь не волновала этого экстравагантного фантазера. Его дело — исследование границ личного представления, могущего вместиться в рамки экрана. В этом, как кажется, истинный источник кинематографа Мельеса — первого, на мой взгляд, автора с большой буквы.
Стихийные, обусловленные законами жизни эксперименты Люмьеров под рукой Мельеса приобрели вполне осознанное, программное значение, предвосхитив, тем самым, явление самостоятельной области экспериментального кино. Области, в которой непрестанно анализируется, созидается и развивается формальная выразительность кинематографа.
Революция, радикальное новаторство лежит у самого его основания. И не столько лежит, сколько двигает, развивает, обогащает инструментарий художественной выразительности экрана.
Так, известные почти каждому зрителю ленты Люмьеров в большинстве своем экспериментальны: у авторов можно обнаружить первые кино-исследования ракурсов и перспективы, первую панораму, первые опыты комбинированной съемки, первые инсценировки, подчас расположенные в пограничном пространстве между «игровой» и «неигровой», первый (пусть и непроизвольный) крупный план.
Все эти известные сегодня формальные элементы киноязыка бессознательно вскрывались благодаря активной деятельности братьев-зачинателей кинематографа, направленной на воспроизведение жизненного движения. Впрочем, иначе и быть не могло! Новое явление требует новых подходов, уникального взгляда, того чистого, еще не осознанного впечатления, какое способно адекватнее его воспринять и усвоить. Сам факт новизны устройства, тесно сопряженный с незнанием, туманными прогнозами и первичным непониманием, автоматически обращает любое кино-действие в эксперимент — искренний и беспристрастный взгляд в новое. С одной стороны, так расширяется объем художественности экрана, с другой — нащупываются примерные его границы. Границы, как показал дальнейший ход истории, весьма пластичные и технически растяжимые. Ибо если «мы не можем наши глаза сделать лучше, чем они сделаны, [то] кино-аппарат мы можем совершенствовать без конца», — считал Дзига Вертов [1].
Революционность кинематографа ощущалась всем телом мировой культуры. Под влиянием первых кино-творцов различные искусства претерпевали явные перемены. Футуристы, будто из зависти к жизненному качеству киноаппарата, стремились повторить видимое движение изобразительными средствами. Впрочем, пока Джакомо Балла всячески искажал свою маленькую собачку на поводке, некоторые художники четко осознавали ограниченность красок и теней на статичном полотне. «Логический шаг, который мы сделали в направлении неограниченного пространства, вытолкнул нас за пределы станковой живописи; мы поняли, что добились больше того, что требовалось — настоящего движения. А движение подразумевает фильм. Тем самым мы установили линию непрерывной традиции, шедшую от Сезанна к кубистам, от абстрактного искусства к кино (в стремлении найти отчетливое выражение абстрактной формы, поскольку она является последним шагом в развитии современного искусства)», — позже напишет дадаист Ганс Рихтер [2]. Художник, к слову, на практике показал верность своих утверждений. В фильме «Ритм 21» (1921) пространство экрана исследуется посредством движения абстрактных геометрических фигур, преодолевших статику живописи. Визуальные возможности кино не обошли стороной и музыку. К примеру, Викинг Эккелинг в 1924 году снимает экспериментальный фильм «Диагональная симфония», в котором исследование контрапунктирования и аналогий перетекает в немую визуальную демонстрацию некоего музыкального произведения (музыку буквально можно было «слышать» через изображение). В этом же ключе творил Оскар Фишингер, который в своих «Этюдах» и «Композиции в синема» смог передать мелодию средствами белого и черного, цветных геометрических форм.
Иными словами, природная экспериментальность кино естественным образом множила революцию не только внутри себя, но и за собственными пределами.
Однако вернемся к исходной позиции.
Формальные искания Люмьеров, обусловленные жизненным материалом, в большинстве своем непрограммны. Это вполне закономерно, поскольку, во-первых, киноаппарат возник из необходимости запечатлеть изменчивую жизнь, а во-вторых, хроника, составляющая большую часть люмьеровских лент, будучи фиксацией движений реального, непременно диктует свои жизненные требования. Уникальные события, происходящие в действительности, невозможно осмыслить априори: каждый раз новые они требуют новых подходов. Эти мысли остро обозначил американский документалист Ричард Ликок в интервью с Гидеоном Бахманом: «…Куда бы вы ни пошли, вас окружают новые явления, происшествия, с которыми вы недостаточно знакомы. Проблема всегда заключается в том, чтобы увидеть это новое и достоверно выразить его» [3].
Отсюда чистота впечатления, неизбежно сказывающаяся на формальном построении, — столь же чистом, неосознанном и экспериментальном. Неспроста Вертов спустя десятилетия откажется видеть в кинематографической специфике «трюкачество», признает все элементы киноязыка как обыкновенные и естественные; адекватные многогранной и противоречивой жизни [4]!
От первого «Выхода рабочих с фабрики» (1895) и вплоть до «Умывания собаки» (1900) ветвилось младенческое, но уже многомерное кино, способное вместить в себя не только другие искусства, подчинив и преодолев их, но и самую жизнь. Однако если Люмьеры связывали объектив с действительностью, подчинялись ей, то Жорж Мельес, принявший творческую эстафету, иначе понял художественный потенциал экрана, подверг первичное впечатление — единственно возможную форму взаимодействия с постоянно меняющейся жизнью, — ясной человеческой осознанности. С откровенных заимствований французский циркач легким (как это и положено циркачам) кульбитом перешел в область самостоятельного, исключительно авторского творчества, первым на практике обосновав созидательные возможности кино. Кинематографические построения мельесовских лент из опытов фиксации жизни, явленных в фильме «Партия в карты» (1896), резко перешли в область человеческого воображения — к чистой фантазии. Жизнь, подлинная и реальная, отнюдь не волновала этого экстравагантного фантазера. Его дело — исследование границ личного представления, могущего вместиться в рамки экрана. В этом, как кажется, истинный источник кинематографа Мельеса — первого, на мой взгляд, автора с большой буквы.
Стихийные, обусловленные законами жизни эксперименты Люмьеров под рукой Мельеса приобрели вполне осознанное, программное значение, предвосхитив, тем самым, явление самостоятельной области экспериментального кино. Области, в которой непрестанно анализируется, созидается и развивается формальная выразительность кинематографа.
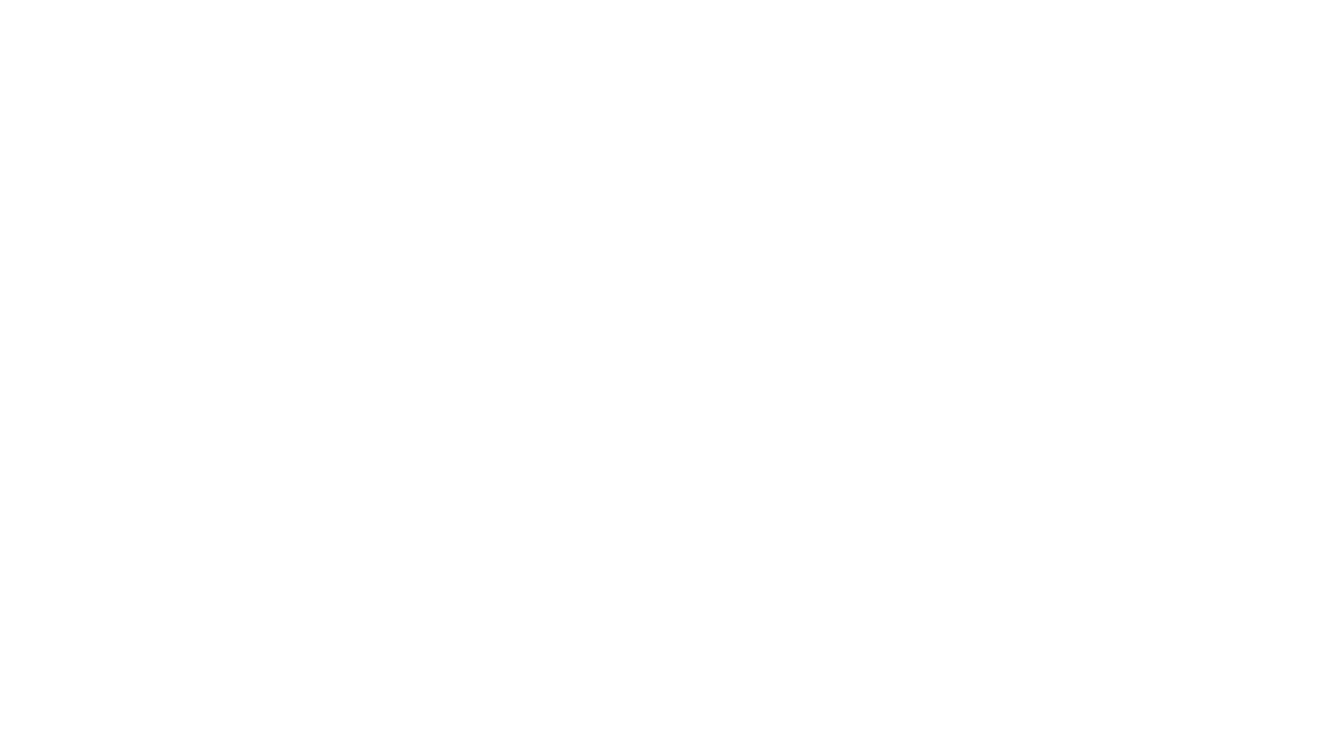
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1895) / реж. Луи Люмьер
ЭКСПЕРИМЕНТ И ЖИЗНЬ
Кинематограф по своей природе экспериментален. Однако это лишь часть существа кино, и при том подчиненная. В первую же очередь следует говорить о способности кинообъектива воспринимать и передавать движение жизни, побуждающее к поиску в каждом конкретном событии уникальной выразительности.
Люмьеры обращались к окружающей их действительности: несмотря на некоторые откровенно инсценировочные постановки, экран оставался для них сценой, на которой бесконечно «играла» реальность. В этом смысле показательно утверждение Тарковского, который в отношении фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1895) писал, что «в тот момент и произошло рождение киноискусства» [5].
В стремлении выявить существо жизни, объять ее движущуюся полноту возникали первые эксперименты, приуроченные к созданию киноязыка, способного воспринимать всевозможные, каждый раз новые пространственно-временные отношения. Эту естественную экспериментальность, возникающую в соприкосновении с действительностью, подмечает французский теоретик Марсель Мартен применительно к французскому авангардному кино-течению 50-х годов «синема верите»: «…киноправда» исследует подлинно новые области и с каждым разом все более смело и с большими результатами. Этот экспериментальный аспект гарантирует успех…» [6].
Однако жизнь воспринималась первыми кинотворцами по-разному, что и отразилось на противоречивой природе кино. Зигфрид Кракауэр в своей «Теории фильма» определяет эту противоречивость дихотомией Люмьеров-Мельеса, в общем смысле означающей конфликт «реального» и «искусственного», творческого.
С одной стороны, Люмьеры, творчество которых за некоторыми исключениями базировалось на документально-хроникальном жизненном основании. С другой стороны, Мельес, воспринимающий действительность через призму человеческого (т.е. собственного, авторского) воображения. Последнее утверждение справедливо уже из того, что режиссер, будто в насмешку своим конкурентам, еще до фактического события снял «Коронацию Эдуарда VII» (1902), подтвердив то, что впоследствии много позже лидер группы «чистое кино» Анри Шометт назовет творческой способностью кино. Экспериментальное творчество Люмьеров, порожденное логикой фиксируемой жизни, из естественного поиска выразительности в случае с Мельесом обращается осознанной самоцелью, в которой причудливо сплетается два основания — авторский концепт и специфическая природа кино, способная этого автора разместить на экране.
Своеобразным выражением единства противоположностей, наследующим и Люмьерам, и Мельесу, стала Брайтонская школа кино в Англии. В фильмах этого раннего кино-течения осознанно используются возможности киноаппарата: от различной крупности планов в «Бабушкиной лупе» (1900) и экспериментов с каше в «Маленьком докторе» (1901), вплоть до осмысленной монтажной композиции в «Нападении на миссию в Китае» (1900) режиссера Джеймса Уильямсона. По словам Игоря Беленького, «Уильямсону принадлежит, по-видимому, первый «авангардный» фильм «Большой глоток», прямой предшественник французских авангардных картин 1920-х гг., в частности снятых в группе «чистое кино» [7].
Люмьеры обращались к окружающей их действительности: несмотря на некоторые откровенно инсценировочные постановки, экран оставался для них сценой, на которой бесконечно «играла» реальность. В этом смысле показательно утверждение Тарковского, который в отношении фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1895) писал, что «в тот момент и произошло рождение киноискусства» [5].
В стремлении выявить существо жизни, объять ее движущуюся полноту возникали первые эксперименты, приуроченные к созданию киноязыка, способного воспринимать всевозможные, каждый раз новые пространственно-временные отношения. Эту естественную экспериментальность, возникающую в соприкосновении с действительностью, подмечает французский теоретик Марсель Мартен применительно к французскому авангардному кино-течению 50-х годов «синема верите»: «…киноправда» исследует подлинно новые области и с каждым разом все более смело и с большими результатами. Этот экспериментальный аспект гарантирует успех…» [6].
Однако жизнь воспринималась первыми кинотворцами по-разному, что и отразилось на противоречивой природе кино. Зигфрид Кракауэр в своей «Теории фильма» определяет эту противоречивость дихотомией Люмьеров-Мельеса, в общем смысле означающей конфликт «реального» и «искусственного», творческого.
С одной стороны, Люмьеры, творчество которых за некоторыми исключениями базировалось на документально-хроникальном жизненном основании. С другой стороны, Мельес, воспринимающий действительность через призму человеческого (т.е. собственного, авторского) воображения. Последнее утверждение справедливо уже из того, что режиссер, будто в насмешку своим конкурентам, еще до фактического события снял «Коронацию Эдуарда VII» (1902), подтвердив то, что впоследствии много позже лидер группы «чистое кино» Анри Шометт назовет творческой способностью кино. Экспериментальное творчество Люмьеров, порожденное логикой фиксируемой жизни, из естественного поиска выразительности в случае с Мельесом обращается осознанной самоцелью, в которой причудливо сплетается два основания — авторский концепт и специфическая природа кино, способная этого автора разместить на экране.
Своеобразным выражением единства противоположностей, наследующим и Люмьерам, и Мельесу, стала Брайтонская школа кино в Англии. В фильмах этого раннего кино-течения осознанно используются возможности киноаппарата: от различной крупности планов в «Бабушкиной лупе» (1900) и экспериментов с каше в «Маленьком докторе» (1901), вплоть до осмысленной монтажной композиции в «Нападении на миссию в Китае» (1900) режиссера Джеймса Уильямсона. По словам Игоря Беленького, «Уильямсону принадлежит, по-видимому, первый «авангардный» фильм «Большой глоток», прямой предшественник французских авангардных картин 1920-х гг., в частности снятых в группе «чистое кино» [7].
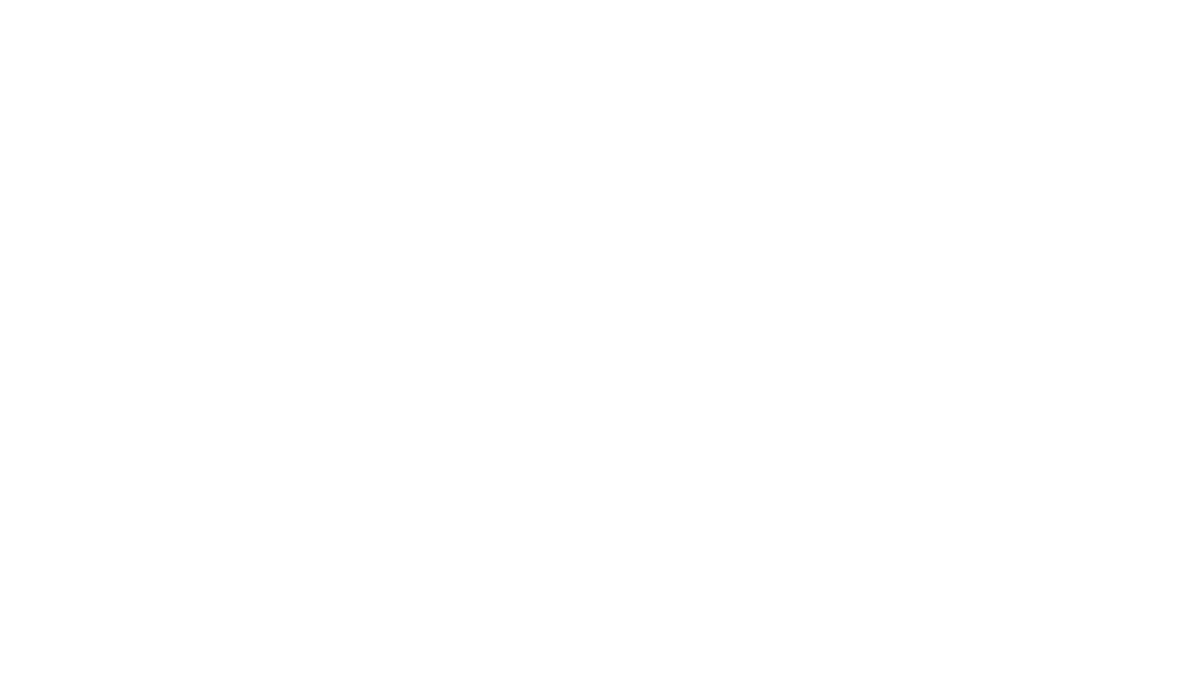
«Послеполуденные сети» (1943) / реж. Майя Дерен
НЕ ДЛЯ ВСЕХ, НО ЛИЧНО ДЛЯ ТЕБЯ
На первый взгляд, экспериментальное возникает в результате самовоспроизведения автора в собственном творчестве — это наиболее условные, художественно обобщенные, эстетически экстрактные фильмы, определяемые, как кажется, концептом экранного художника. Согласно ловко сформулированной идее Франсуа Трюффо, автор может проявить себя только в самобытности кино-форм — отсюда кажущаяся верность предположения. Так, например, американская авангардистка Майя Дерен, наследующая европейской экспериментальной традиции, в своих сомнамбулических и иррационально-хореографических постановках руководствуется сознательным контролем творческого процесса, четко ощутимым авторским участием.
Однако на деле, в воплощении, авторский эксперимент в силу экстравагантности и антиконвенциональности формы в большей степени тяготеет отнюдь не к автору, но к зрителю: всякое новое, нарушающее общепринятые каноны, возбуждает зрительскую ментальную активность, затмевающую авторский голос. Для Дерен это характерно не в меньшей степени. Некоторые усматривают в ее фильмах иносказательную критику капиталистического общества, другие нащупывают фрейдистскую мысль, третьи обнаруживают иллюстрации теоретических представлений авангардистки, четвертые — побуждение к реализму (о чем свидетельствуют отказ от принципов «автоматического письма» и явная подконтрольность внутриэкранного пространства), пятые — деконструкцию американского жанра «женской мелодрамы» и т. д.
Особенности формального построения, к примеру, в той же «Ведьминой колыбели» (1943), возбуждают целый ворох подчас взаимоисключающих интерпретаций: каждое решение, каждый визуальный «трюк» может быть раскрыт и понят совершенно по-разному.
Концептуальность обращается воззванием к необходимости субъективного прочтения, где автор — частный зритель, имеющий лишь одну из возможных интерпретаций. Эксперимент гиперболизирует форму перед статичным концептуальным содержанием, превращает его в явление субъективное, случайное. Именно в этом, как кажется, прослеживаются творческие корни другого направления экспериментального экрана — дада-кино. Следуя тезису об «антиискусстве», цюрихские дадаисты оказывались лицом к лицу со случайностью, исключающей авторский контроль. Так, Ханс Арп, одним из первых начавший творить по принципу «закона случайности», говорит: «Закон случайности, который охватывает собой все законы и непостижим для нас, как и первопричина, из которой исходит жизнь, может быть усвоен только при полной отдаче подсознательному. Я утверждаю: кто следует этому закону, тот утверждает чистую жизнь» [8].
Дадаисты возвращают эксперимент к исходной жизненной позиции, и делают это весьма самобытно. Бесконечное течение жизни, взрывающееся программным абсурдом и хаосом в клеровском «Антракте» (1924), обращается более закономерным и естественным движением в «Механическом балете» (1924) Фернана Леже или, еще раньше, в ман-рэевском «Возвращении к разуму» (1923). Авторская программность, осознанный эксперимент уступают место исходному естественному эксперименту, исходящему из логики жизненного материала…
Антиконвенциональность формы разрушает массовый характер кино, взывая к наиболее сознательным, активным — и, следовательно, самостоятельным, — зрителям, не привыкшим к мысленной пассивности. Сверх того! В случае с дада-фильмами любой зритель вынужденно приобретает самостоятельность: каждый смотрящий перед лицом оголенного движения обращается своего рода аборигеном, сызнова воспринимающим почти мистическую для его глаз реальность.
Кажется, именно это имел в виду американский режиссер-экспериментатор, ключевое лицо поп-арта Энди Уорхол, честно и без обиняков признаваясь в своих интервью, что не знает, какую мысль хочет высказать своим творчеством [9] (что положительно отличает его от других творцов, всюду устанавливающих свои концепты, «оправдывающие» творческий процесс). Если Добротворский, к примеру, увидел в уорхоловской ленте «Эмпайр» (1965) гибель времени, лишенного пространственной координаты (жизненно необходимой для поддержания идеального кинематографического хронотопа), то автор этих строк, напротив, склонен к мысли о его объективном запечатлении, видимом на экране без трюкаческих излишеств. Содержание фильма исчерпывается формальным построением, высвобождающим герменевтические потенции зрителей. И Уорхол — уже не автор — среди них.
Гипербола формы сводит статичное содержание в пространство зрительской субъективности, неизбежно «очищает», оголяет существо кинематографа как специфического — с присущим только ему одному комплексом форм — искусства. Это уже не авторская рефлексия, но самопознание кинематографа.
Кинематографа, непосредственно связанного, c одной стороны, с образами жизни, которые составляют ключевой и определяющий его ресурс, а с другой — с личными творческими способностями кино-художника. Это противоречивое, парадоксальное положение формирует самобытность экспериментального кино, отличного от документального и игрового.
Однако на деле, в воплощении, авторский эксперимент в силу экстравагантности и антиконвенциональности формы в большей степени тяготеет отнюдь не к автору, но к зрителю: всякое новое, нарушающее общепринятые каноны, возбуждает зрительскую ментальную активность, затмевающую авторский голос. Для Дерен это характерно не в меньшей степени. Некоторые усматривают в ее фильмах иносказательную критику капиталистического общества, другие нащупывают фрейдистскую мысль, третьи обнаруживают иллюстрации теоретических представлений авангардистки, четвертые — побуждение к реализму (о чем свидетельствуют отказ от принципов «автоматического письма» и явная подконтрольность внутриэкранного пространства), пятые — деконструкцию американского жанра «женской мелодрамы» и т. д.
Особенности формального построения, к примеру, в той же «Ведьминой колыбели» (1943), возбуждают целый ворох подчас взаимоисключающих интерпретаций: каждое решение, каждый визуальный «трюк» может быть раскрыт и понят совершенно по-разному.
Концептуальность обращается воззванием к необходимости субъективного прочтения, где автор — частный зритель, имеющий лишь одну из возможных интерпретаций. Эксперимент гиперболизирует форму перед статичным концептуальным содержанием, превращает его в явление субъективное, случайное. Именно в этом, как кажется, прослеживаются творческие корни другого направления экспериментального экрана — дада-кино. Следуя тезису об «антиискусстве», цюрихские дадаисты оказывались лицом к лицу со случайностью, исключающей авторский контроль. Так, Ханс Арп, одним из первых начавший творить по принципу «закона случайности», говорит: «Закон случайности, который охватывает собой все законы и непостижим для нас, как и первопричина, из которой исходит жизнь, может быть усвоен только при полной отдаче подсознательному. Я утверждаю: кто следует этому закону, тот утверждает чистую жизнь» [8].
Дадаисты возвращают эксперимент к исходной жизненной позиции, и делают это весьма самобытно. Бесконечное течение жизни, взрывающееся программным абсурдом и хаосом в клеровском «Антракте» (1924), обращается более закономерным и естественным движением в «Механическом балете» (1924) Фернана Леже или, еще раньше, в ман-рэевском «Возвращении к разуму» (1923). Авторская программность, осознанный эксперимент уступают место исходному естественному эксперименту, исходящему из логики жизненного материала…
Антиконвенциональность формы разрушает массовый характер кино, взывая к наиболее сознательным, активным — и, следовательно, самостоятельным, — зрителям, не привыкшим к мысленной пассивности. Сверх того! В случае с дада-фильмами любой зритель вынужденно приобретает самостоятельность: каждый смотрящий перед лицом оголенного движения обращается своего рода аборигеном, сызнова воспринимающим почти мистическую для его глаз реальность.
Кажется, именно это имел в виду американский режиссер-экспериментатор, ключевое лицо поп-арта Энди Уорхол, честно и без обиняков признаваясь в своих интервью, что не знает, какую мысль хочет высказать своим творчеством [9] (что положительно отличает его от других творцов, всюду устанавливающих свои концепты, «оправдывающие» творческий процесс). Если Добротворский, к примеру, увидел в уорхоловской ленте «Эмпайр» (1965) гибель времени, лишенного пространственной координаты (жизненно необходимой для поддержания идеального кинематографического хронотопа), то автор этих строк, напротив, склонен к мысли о его объективном запечатлении, видимом на экране без трюкаческих излишеств. Содержание фильма исчерпывается формальным построением, высвобождающим герменевтические потенции зрителей. И Уорхол — уже не автор — среди них.
Гипербола формы сводит статичное содержание в пространство зрительской субъективности, неизбежно «очищает», оголяет существо кинематографа как специфического — с присущим только ему одному комплексом форм — искусства. Это уже не авторская рефлексия, но самопознание кинематографа.
Кинематографа, непосредственно связанного, c одной стороны, с образами жизни, которые составляют ключевой и определяющий его ресурс, а с другой — с личными творческими способностями кино-художника. Это противоречивое, парадоксальное положение формирует самобытность экспериментального кино, отличного от документального и игрового.
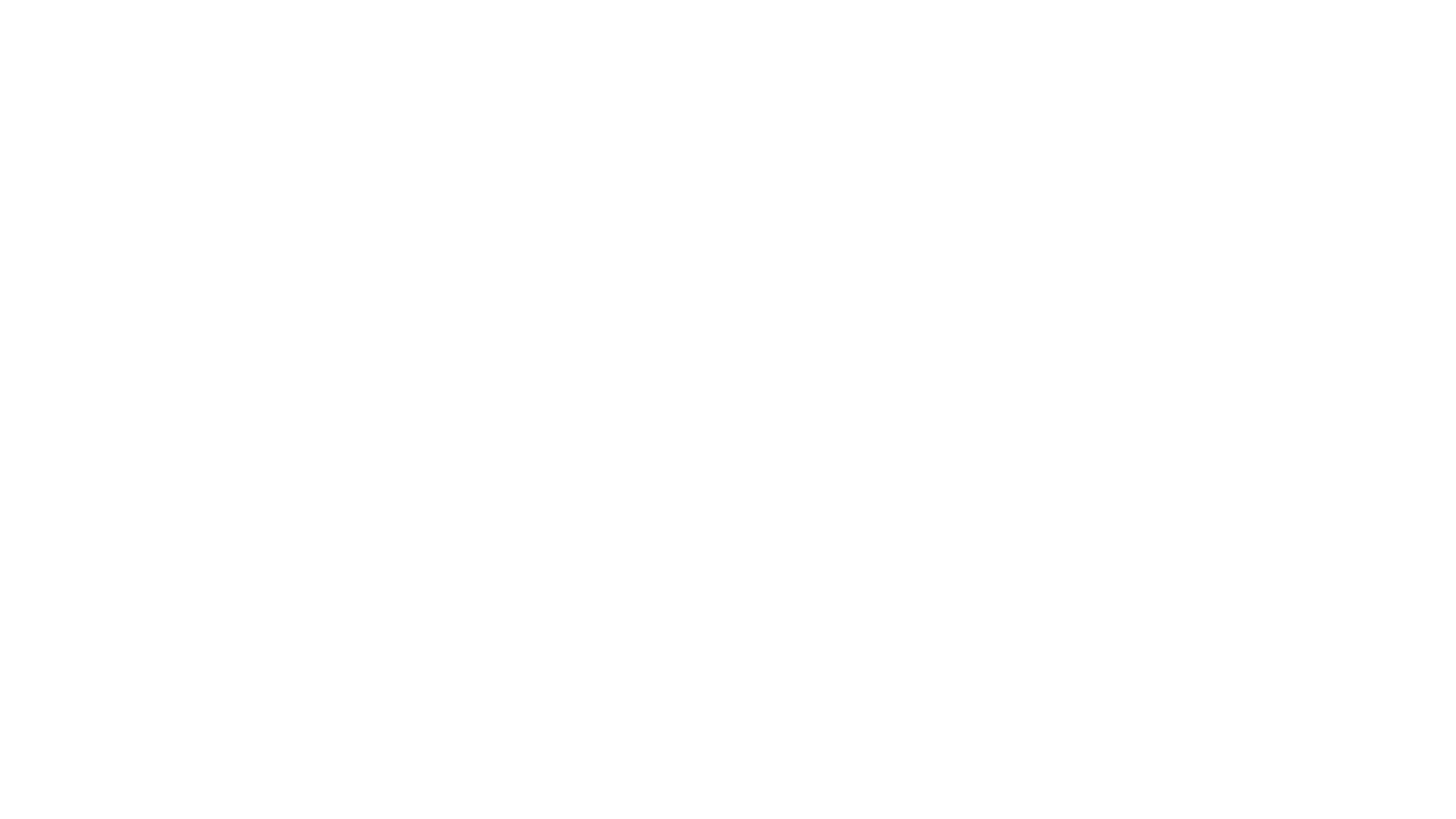
«Пять минут чистого кино» (1926) / реж. Анри Шометт
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ТРИЕДИНСТВО
Кинематограф, исполненный природной парадоксальностью, можно представить в качестве формального триединства.
Его составляют, во-первых, неигровое, документально-хроникальное кино, в котором жизненное движение растворяет руку самостоятельного художника, буквально самосотворяется ей на экране, побуждая активного зрителя к субъективному участию.
Во-вторых, кино игровое, возникшее из творческого, созидательного побуждения автора, творящего в формально-содержательном строительстве самого себя: формальная конструкция оказывается подчинена сугубо авторскому, однозначно считываемому содержанию. Этот тезис, раскрывающий различность названных кино-форм, подтверждает американский режиссер Лайонел Рогозин, активно совмещающий игровой и неигровой методы творчества: «Запечатлеть «жизнь врасплох» — это нечто большее, чем простое изображение представителей данной среды… Это нечто совсем отличное от традиционного написания сценария, когда мысли и сюжет принадлежат, по существу, автору, а профессиональные актеры выражают их через своих героев. В конечном счете, такие фильмы далеки от реалистического изображения жизни, хотя они вполне могут быть удовлетворительным отображением симфонических идей. Причем в этом случае замысел, диалог и игра актеров используются как средство выражения мыслей автора сценария» [10].
Эти фундаментальные субстанции-свойства, творческая инициатива и жизненный акцент, формируют две основополагающие формы (или жанра, если угодно) кино. Однако кино — не только автор и не только жизнь. Это также и диалектика их взаимодействий, стремящаяся к разрешению.
Именно эту диалектику, которая выступает составным третьим свойством, — фактически определяющим лицо кино, — воплощает эксперимент. Поставленная во главу угла неразрешенная и парадоксальная природа кино в случае с экспериментальными опытами становится предметом кинематографического исследования. Кино буквально познает на экране самое себя. Это кино ради кино, или «чистое кино».
Анри Шометт, чей фильм «Пять минут чистого кино» (1926) лег в основу одноименного художественного направления, четко определил промежуточное положение кино-эксперимента:«…Все проявления кино на данном этапе сводятся к фильмам одного порядка, а именно: фильмы документальные (простые движущиеся фотографии, запечатлевшие действительность) и драматические (комедии, драмы, феерии и т. д., источники и сущность которых восходят к ранее существовавшим зрелищам — театру, пантомиме, мюзик-холлу и т. д.) Но возможности кино не ограничиваются воспроизведением мира. Кино может творить» [11]. Олицетворение природного парадокса кино, взятого метафизически, составляет, по Шометту, фундамент экспериментального кинематографа.
«Пять минут чистого кино» буквально репрезентует на экран суть кино: вольно строящиеся стекла составляют калейдоскопические фигуры, завершающиеся образами реального леса. Утверждение Шометта на экране вскрывает куда больше подсмыслов, нежели могло показаться из высказанных им идей. Экспериментальное творческое кино, вбирающее в себя и исследующее фундаментальный кино-парадокс, не может не выразить и свойственное последнему движение к разрешению. На деле экран выражает не столько метафизическое противоречие, сколько определенность его преодоления. В этой прогрессивной однонаправленной энергии прослеживается истинная природа кинематографической революционности, того, что делает экспериментальное кино авангардом.
Его составляют, во-первых, неигровое, документально-хроникальное кино, в котором жизненное движение растворяет руку самостоятельного художника, буквально самосотворяется ей на экране, побуждая активного зрителя к субъективному участию.
Во-вторых, кино игровое, возникшее из творческого, созидательного побуждения автора, творящего в формально-содержательном строительстве самого себя: формальная конструкция оказывается подчинена сугубо авторскому, однозначно считываемому содержанию. Этот тезис, раскрывающий различность названных кино-форм, подтверждает американский режиссер Лайонел Рогозин, активно совмещающий игровой и неигровой методы творчества: «Запечатлеть «жизнь врасплох» — это нечто большее, чем простое изображение представителей данной среды… Это нечто совсем отличное от традиционного написания сценария, когда мысли и сюжет принадлежат, по существу, автору, а профессиональные актеры выражают их через своих героев. В конечном счете, такие фильмы далеки от реалистического изображения жизни, хотя они вполне могут быть удовлетворительным отображением симфонических идей. Причем в этом случае замысел, диалог и игра актеров используются как средство выражения мыслей автора сценария» [10].
Эти фундаментальные субстанции-свойства, творческая инициатива и жизненный акцент, формируют две основополагающие формы (или жанра, если угодно) кино. Однако кино — не только автор и не только жизнь. Это также и диалектика их взаимодействий, стремящаяся к разрешению.
Именно эту диалектику, которая выступает составным третьим свойством, — фактически определяющим лицо кино, — воплощает эксперимент. Поставленная во главу угла неразрешенная и парадоксальная природа кино в случае с экспериментальными опытами становится предметом кинематографического исследования. Кино буквально познает на экране самое себя. Это кино ради кино, или «чистое кино».
Анри Шометт, чей фильм «Пять минут чистого кино» (1926) лег в основу одноименного художественного направления, четко определил промежуточное положение кино-эксперимента:«…Все проявления кино на данном этапе сводятся к фильмам одного порядка, а именно: фильмы документальные (простые движущиеся фотографии, запечатлевшие действительность) и драматические (комедии, драмы, феерии и т. д., источники и сущность которых восходят к ранее существовавшим зрелищам — театру, пантомиме, мюзик-холлу и т. д.) Но возможности кино не ограничиваются воспроизведением мира. Кино может творить» [11]. Олицетворение природного парадокса кино, взятого метафизически, составляет, по Шометту, фундамент экспериментального кинематографа.
«Пять минут чистого кино» буквально репрезентует на экран суть кино: вольно строящиеся стекла составляют калейдоскопические фигуры, завершающиеся образами реального леса. Утверждение Шометта на экране вскрывает куда больше подсмыслов, нежели могло показаться из высказанных им идей. Экспериментальное творческое кино, вбирающее в себя и исследующее фундаментальный кино-парадокс, не может не выразить и свойственное последнему движение к разрешению. На деле экран выражает не столько метафизическое противоречие, сколько определенность его преодоления. В этой прогрессивной однонаправленной энергии прослеживается истинная природа кинематографической революционности, того, что делает экспериментальное кино авангардом.
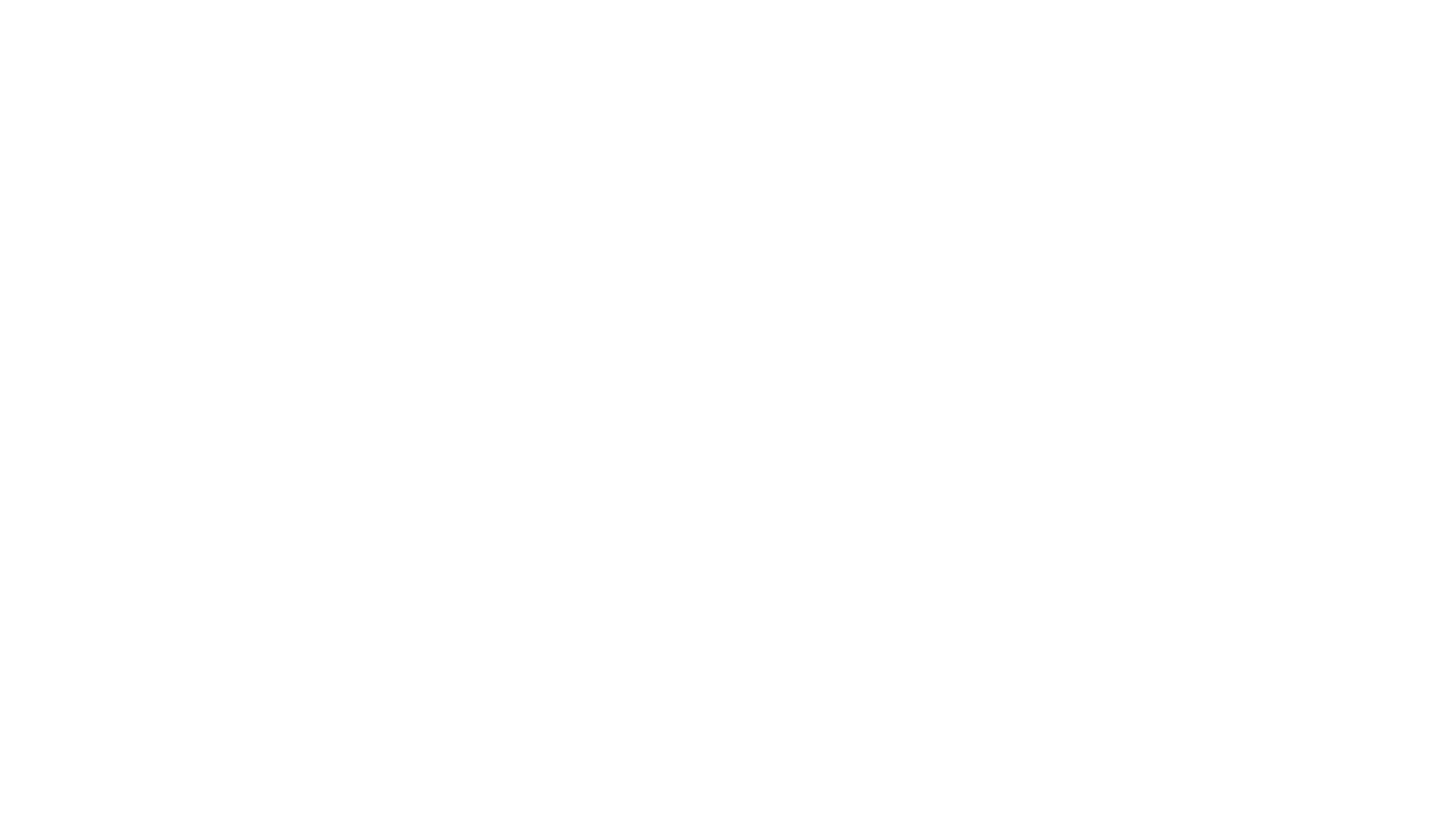
«Послеполуденные сети» (1943) / реж. Майя Дерен
ЭКСПЕРИМЕНТ — ВСЕГДА АВАНГАРД
Самосознание кинематографа, очерчивающее внутренний художественный объем экрана, в экспериментальном процессе нарабатывает новые формы выразительности. Благодаря бесконечному исследованию кино-естества — и его, как следствие, осознанности — эксперимент способен преодолеть утвердившиеся конвенции, очистить творческое пространство для новой образности, обновления визуального языка. В этом, несомненно, основной аргумент в пользу синонимичности понятий «эксперимент» и «авангард».
Самый факт консервации природного парадокса кино определяет промежуточное, революционное состояние экспериментального кинематографа: режиссеры-экспериментаторы расположены в пространстве между «игровой» и «неигровой». Каждый их творческий акт суть возможность создать еще до конца не осознанную базу нового, разрушить или разложить рамки старого. Об этом убедительно говорил Сергей Добротворский: «авангард занят не столько разработкой новых участков и направлений искусства, сколько «закрытием» старых» [12]. Подавленность гиперболой формы авторского содержания, спрятанного в личном, неизвестном зрителю концепте, исключает возможность однозначного осознания возможностей новых форм. Каждый смотрящий соприкасается с новым явлением субъективным глазом, порождающим равные по субъективности интерпретации.
Исследование кино его же средствами вскрывает весьма интересные свойства экспериментального кинематографа, проливающие свет на некоторые вопросы.
Самый факт консервации природного парадокса кино определяет промежуточное, революционное состояние экспериментального кинематографа: режиссеры-экспериментаторы расположены в пространстве между «игровой» и «неигровой». Каждый их творческий акт суть возможность создать еще до конца не осознанную базу нового, разрушить или разложить рамки старого. Об этом убедительно говорил Сергей Добротворский: «авангард занят не столько разработкой новых участков и направлений искусства, сколько «закрытием» старых» [12]. Подавленность гиперболой формы авторского содержания, спрятанного в личном, неизвестном зрителю концепте, исключает возможность однозначного осознания возможностей новых форм. Каждый смотрящий соприкасается с новым явлением субъективным глазом, порождающим равные по субъективности интерпретации.
Исследование кино его же средствами вскрывает весьма интересные свойства экспериментального кинематографа, проливающие свет на некоторые вопросы.
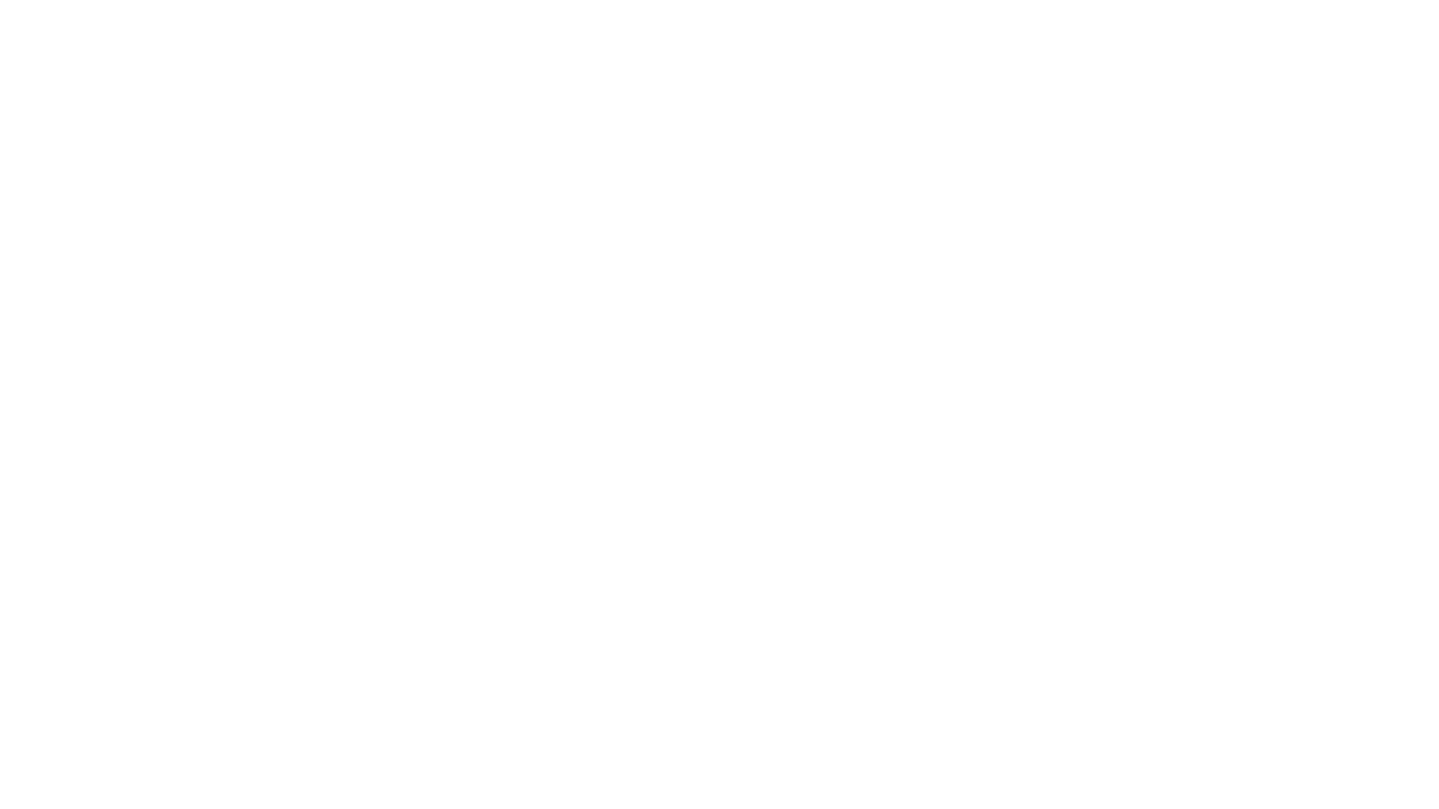
«Человек с киноаппаратом» (1929) / реж. Дзига Вертов
ЭКСПЕРИМЕНТ И ДОКУМЕНТ
Поскольку «кино является самим собой лишь в том случае, когда регистрирует и раскрывает окружающую физическую действительность» [13], как считал Кракауэр, постольку экспериментальное кино, единственной целью которого является выявление и осмысление подлинного естества кинематографа, в большинстве своем тяготеет к документализму, к жизни, творящей самое себя через экран. Это тяготение ясно продемонстрировал Шометт в своем фильме, о котором речь шла выше.
Близость природ подтверждается и общностью свойств. В документальном кино так же, как и в экспериментальном, автор стремится к самоисключению: в первом случае это достигается действованием жизни на экране, вынуждающей кинотворца «стушеваться», подчиниться реальному движению, во втором — содержательная неопределенность, лишающая авторский концепт однозначности и, значит, фундаментальности.
Наконец, документализм не отрицает экспериментальных исканий! Вспомним суждение Ликока, цитируемое выше: режиссер-документалист, сталкиваясь каждый раз с новым явлением, вынужден искать столь же новое его воплощение, способное сохранить чистоту впечатления.
Однако тяготение не есть еще достижение тождественности. Самобытность экспериментального кино и заключается в том, что оно как бы незакончено, погранично. Если две другие формы кинотворчества разрешают природный парадокс экрана, то эксперимент воспринимает этот самый парадокс в незавершенном движении к преодолению.
Исследуя киноискусство экспериментаторы не могут не признавать двойственность его природы. А значит не могут игнорировать необходимость ее теоретического и практического разрешения. Ибо в этом задача экспериментального кино — выявить саму суть экранного искусства, ликвидировать сложности, мешающие ему развиваться. Именно необходимость развития вооружала авангардистов в борьбе.
В борьбе, как правило, с засильем коммерческого и схематичного игрового кино, с тем, что Тарковский назвал «мнимохудожественным» путем [14].
Первые французские авангарды стремились переломить натиск удушающей развлекательности со стороны крупных фирм, выработать собственно кинематографический язык. То же касается различных национальных новых волн в кино, в частности, в США. Как пишет Сергей Добротворский, «история Нового Американского Кино — история целого ряда альтернативных структур…» [15].
Парадокс, за который зацепились представители экспериментального кино, как показали сначала теоретики, а затем и практики, ложный.
Следуя логике Канудо, который видел в кино возможность «возвратить изображение жизни к источникам всех эмоций, ища самое жизнь посредством движения» [16], Кракауэр разрешает двойственность кино-природы в частном порядке через проблему творческой способности художника. Анализируя исследование немецкого теоретика Аристарко резюмирует: «Фотограф, по мнению Кракауэра, опирается на собственную индивидуальность не для того, чтобы выразить ее в «самостоятельных» творческих произведениях, а чтобы растворить ее в сущности окружающих его со всех сторон предметов… Следовательно, «стремление к творчеству» вовсе не обязательно должно противоречить «стремлению к реальному».
Наоборот, оно может способствовать усилению этого «стремления к реальному» и его достижению» [17]. Поскольку кинематограф онтологически связан с фотографией, те же выводы допустимы и в его отношении. Кино может (и должно) быть искусством, черпающим самое себя из жизненной реальности.
Ключевой тезис творцов экспериментального авангардного кино заключался в непризнании диктата других искусств. Например, Жермена Дюлак формулирует стремления зарождающегося искусства в том смысле, что кино может быть подлинным только если ограничится видимой жизнью, зрительными формами. Дзига Вертова, один из первых кино-экспериментаторов, требует напрямую: «мы протестуем против смешения искусств, которое многие называют синтезом. Смешение плохих красок, даже идеально подобранных под цвета спектра, даст не белый цвет, а грязь… Мы очищаем киночество от примазавшихся к нему, от музыки, литературы и театра, ищем своего, нигде не краденного ритма и находим его в движениях вещей» [18]. Наконец, наследник кино-авангарда советский документалист Артавазд Пелешян пишет: «…рождение киноискусства не следует рассматривать как синтетическое, механическое или немеханическое слияние разных видов искусств. Не оно рождается от них, а наоборот, они в принципе должны были бы родиться от него — несмотря на то, что известный нам объективный исторический процесс привел к тому, что мы имели, видели и знали «рожденных» раньше, чем «рождающего» [19].
Верность идее «кино ради кино», раскрывающей природу экспериментальности, провоцировала активное отрицание художественного участия других искусств в процессе кино-творчества. Экспериментальные творцы, «очищаясь» от чуждых наслоений, ищут подлинную природу кинематографа. Отказываясь от иных искусств, которые, как писал Канудо, лишь схематизируют и упрощают жизненное впечатление, экспериментаторы-авангардисты невольно остаются перед лицом кинематографического естества, направленного к самой жизни, не терпящей искусственной условности и схематизма художеств. Именно на этом моменте эксперимент обращается однонаправленным (а на деле изначальным) кино-процессом — прямиком к документализму!
Близость природ подтверждается и общностью свойств. В документальном кино так же, как и в экспериментальном, автор стремится к самоисключению: в первом случае это достигается действованием жизни на экране, вынуждающей кинотворца «стушеваться», подчиниться реальному движению, во втором — содержательная неопределенность, лишающая авторский концепт однозначности и, значит, фундаментальности.
Наконец, документализм не отрицает экспериментальных исканий! Вспомним суждение Ликока, цитируемое выше: режиссер-документалист, сталкиваясь каждый раз с новым явлением, вынужден искать столь же новое его воплощение, способное сохранить чистоту впечатления.
Однако тяготение не есть еще достижение тождественности. Самобытность экспериментального кино и заключается в том, что оно как бы незакончено, погранично. Если две другие формы кинотворчества разрешают природный парадокс экрана, то эксперимент воспринимает этот самый парадокс в незавершенном движении к преодолению.
Исследуя киноискусство экспериментаторы не могут не признавать двойственность его природы. А значит не могут игнорировать необходимость ее теоретического и практического разрешения. Ибо в этом задача экспериментального кино — выявить саму суть экранного искусства, ликвидировать сложности, мешающие ему развиваться. Именно необходимость развития вооружала авангардистов в борьбе.
В борьбе, как правило, с засильем коммерческого и схематичного игрового кино, с тем, что Тарковский назвал «мнимохудожественным» путем [14].
Первые французские авангарды стремились переломить натиск удушающей развлекательности со стороны крупных фирм, выработать собственно кинематографический язык. То же касается различных национальных новых волн в кино, в частности, в США. Как пишет Сергей Добротворский, «история Нового Американского Кино — история целого ряда альтернативных структур…» [15].
Парадокс, за который зацепились представители экспериментального кино, как показали сначала теоретики, а затем и практики, ложный.
Следуя логике Канудо, который видел в кино возможность «возвратить изображение жизни к источникам всех эмоций, ища самое жизнь посредством движения» [16], Кракауэр разрешает двойственность кино-природы в частном порядке через проблему творческой способности художника. Анализируя исследование немецкого теоретика Аристарко резюмирует: «Фотограф, по мнению Кракауэра, опирается на собственную индивидуальность не для того, чтобы выразить ее в «самостоятельных» творческих произведениях, а чтобы растворить ее в сущности окружающих его со всех сторон предметов… Следовательно, «стремление к творчеству» вовсе не обязательно должно противоречить «стремлению к реальному».
Наоборот, оно может способствовать усилению этого «стремления к реальному» и его достижению» [17]. Поскольку кинематограф онтологически связан с фотографией, те же выводы допустимы и в его отношении. Кино может (и должно) быть искусством, черпающим самое себя из жизненной реальности.
Ключевой тезис творцов экспериментального авангардного кино заключался в непризнании диктата других искусств. Например, Жермена Дюлак формулирует стремления зарождающегося искусства в том смысле, что кино может быть подлинным только если ограничится видимой жизнью, зрительными формами. Дзига Вертова, один из первых кино-экспериментаторов, требует напрямую: «мы протестуем против смешения искусств, которое многие называют синтезом. Смешение плохих красок, даже идеально подобранных под цвета спектра, даст не белый цвет, а грязь… Мы очищаем киночество от примазавшихся к нему, от музыки, литературы и театра, ищем своего, нигде не краденного ритма и находим его в движениях вещей» [18]. Наконец, наследник кино-авангарда советский документалист Артавазд Пелешян пишет: «…рождение киноискусства не следует рассматривать как синтетическое, механическое или немеханическое слияние разных видов искусств. Не оно рождается от них, а наоборот, они в принципе должны были бы родиться от него — несмотря на то, что известный нам объективный исторический процесс привел к тому, что мы имели, видели и знали «рожденных» раньше, чем «рождающего» [19].
Верность идее «кино ради кино», раскрывающей природу экспериментальности, провоцировала активное отрицание художественного участия других искусств в процессе кино-творчества. Экспериментальные творцы, «очищаясь» от чуждых наслоений, ищут подлинную природу кинематографа. Отказываясь от иных искусств, которые, как писал Канудо, лишь схематизируют и упрощают жизненное впечатление, экспериментаторы-авангардисты невольно остаются перед лицом кинематографического естества, направленного к самой жизни, не терпящей искусственной условности и схематизма художеств. Именно на этом моменте эксперимент обращается однонаправленным (а на деле изначальным) кино-процессом — прямиком к документализму!
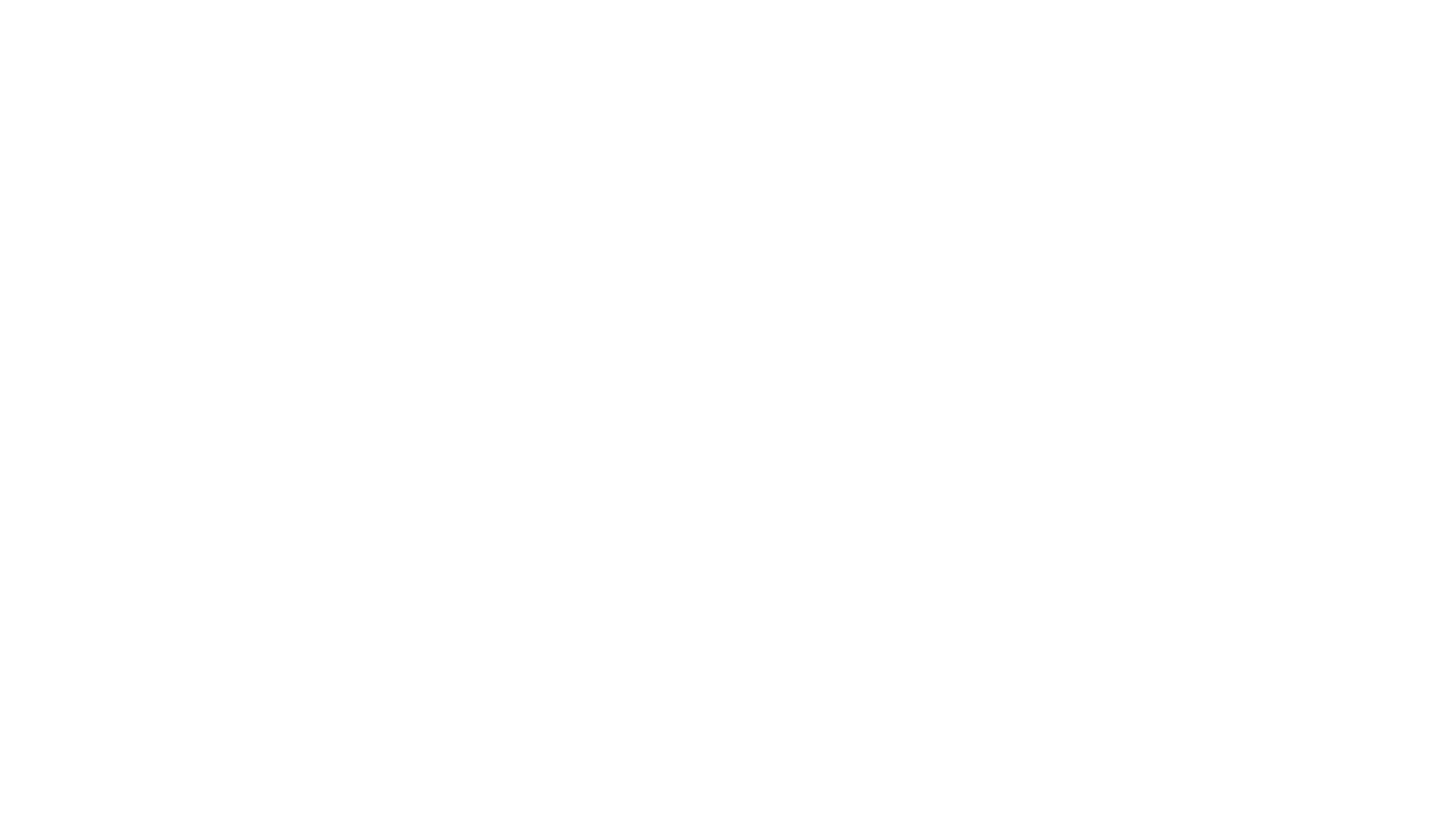
«Берлин - симфония большого города» (1927) / реж. Вальтер Руттман
КАК АВАНГАРДИСТЫ СТАНОВЯТСЯ ДОКУМЕНТАЛИСТАМИ
Как уже было сказано в самом начале, исходная природа кинематографического эксперимента необходимо связана со стремлением наиболее полно выразить жизнь. Диксон, Эдисон, Люмьеры, брайтонцы, дадаисты, сторонники «чистого кино» и другие, исследуя киноискусство, в конечном счете совершенствовали язык, «говорящий» изображениями реальности. Исследуя средство исследования действительности авангардисты-экспериментаторы приходили к исследованию самой жизни. Проще, полагаю, выразиться невозможно.
Разумеется, что для этой цели не все формы эксперимента в равной степени адекватны. Воплощая кинематографический парадокс, онтологическую двойственность экрана, экспериментальное кино само становится двойственным.
В пределах эксперимента сосуществуют две формы творчества — естественная и программная, авторская. Если первая способна поддерживать самое себя, имея дело с бесконечно меняющейся действительностью, то вторая, будучи ограниченной авторским концептом, стремится к самоисключению. Программная экспериментальность, с одной стороны, ликвидирует фундаментальность концепта, переводя содержание в зрительскую область субъективной интерпретации, а с другой стороны, лишает ограниченного автора возможности множить собственные формы без закономерного в этом случае самоповторения.
Любое же самоповторение предполагает создание конвенции, некоего «авторского канона», что разрушает антиконвенциональную — вечно создающую новое — природу экспериментального кино.
Как только программность, взращенная ограниченным сознанием автора, упирается в стену самоцельного повторения, уводящего объектив вглубь человеческих фантазий, дальше от реальности, экспериментальное кино мельесовского порядка вынужденно переходит в область реальной и безграничной жизни — капитулирует перед люмьеровской жизненностью. Именно этим объясняются две основополагающие особенности экспериментального авангардного кино.
Во-первых, существенную часть экспериментов осуществляли документалисты. Так, Дзига Вертов, отец экранной документалистики, активно совмещал экспериментальные поиски с собственно документальным творчеством. Начиная с первых «Кино-Правд», перечеркнувших примитив экранного журнала «Кино-Неделя», которая «отличалась от предыдущих хроник разве только тем, что надписи были «Советские» [20], авангардист вырабатывает в прямом контакте с жизнью новые формы кино-выразительности. Формы, составившие костяк наиболее известных его документально-хроникальных лент «Кино-Глаз» (1924) и «Человек с киноаппаратом» (1929). В этом же ключе следует упомянуть Вальтера Руттмана с фильмом «Берлин — симфония большого города» (1927), в котором развивается заложенный Вертовым симфонический кино-ритм, аккумулирующий многогранное биение жизни: всеобъемлющая гармония реальности выявляется в тесном сопряжении множества форм движения немецкой столицы. Фильмы «Мост» (1928) и «Дождь» (1929) Йориса Ивенса, «Только время» (1926) Альберта Кавальканти также связаны с вертовской экспериментальной документалистикой, интерпретируют искания советского режиссера на свой манер.
Неспроста Кавальканти в интервью Герлингхаузу сетовал на то, что многие кино-творцы, зная Вертова-теоретика, не имеют ни малейшего представления о Вертове-практике [21].
Во-вторых, почти все авангардисты впоследствии оказались в лагере неигрового кино.
Дадаисты Ман Рэй, Ганс Рихтер, внесшие свой вклад в развитие и совершенствование киноязыка, позже перешли в область документального кино-репортажа. Первый, к примеру, завершает цикл своих экстравагантных дада-фильмов дневниковыми съемками испанской корриды и некоторых событий личной обыденности. Таким образом, Рэй предвосхищает репортажный язык кино-дневника американского авангардиста Йонаса Мекаса — мастера личного документального переживания на экране. То же касается Майи Дерен, последний фильм которой «Божественные всадники: Живые боги Гаити» (1947−1954) целиком составлен из хроникально-этнографического материала.
Естественное уравнивание экспериментального авангардизма и документального кино в историческом развитии достигло своего оформления в 50−60-х гг. прошлого века. «Обобщая эти явления, можно сказать, что кинодокументализм в наши дни в целом ряде случаев вновь становится авангардом, действенной, активной силой киноискусства…», — утверждал советский исследователь С. В. Дробашенко [22].
И это весьма справедливая оценка. Достаточно привести ряд примеров.
Неореалистическая тенденция в Италии, «новая волна» во Франции (Годар, к примеру, участвовал в художественном объединении имени Дзига Вертова [23]), специфический кино-процесс в Штатах (вспомним «крестного отца нью-йоркского киноавангарда» Йонаса Мекаса), «Свободное кино» Линдсея Андерсона в Англии, питающееся из фондов для производства экспериментальных фильмов Британского киноинститута, и т. п. Все эти авангардные течения стояли на обогащении игрового кино качествами документализма, способствующими внешнему и внутреннему прогрессу экранного искусства в целом.
Все, или почти все, что прогнозировал Вертов, в конце концов выросло и укрепилось в развивающемся кино-пространстве, связав воедино энергию экспериментального авангарда и документально-хроникальное естество экрана.
Неспроста, как кажется, именно в этот период начинается творчество Артавазда Пелешяна, гениального документалиста, который в своих фильмах «Земля людей» (1966), «Начало» (1967), «Мы» (1969) утверждал совершенно новый монтажный подход, новую философию кино как сверхискусства, могущего переломать законы как других художеств, так и самого кино [24].
Тот же процесс проявился и в начале XXI века в лице «Догмы-95» Ларса фон Триера. Это относительно современное, а потому, кажется, наиболее доказательное в нашем случае течение аккумулировало документалистский экстерьер на почве игровой постановки так, что сама постановка, равно как и актерская игра, подчас исключала любую руковторность со стороны автора-режиссера. Последний признавался простым наблюдателем перформативного действия, отрицающим «личный вкус». На триеровском детище — в силу его наибольшей близости современности — следует остановится подробнее.
Некоторые исследователи «догма»-феномена связывают триеровское детище с опытом «новых волн». Основанием тому служит не только характерное родство реализованных на практике киноформ, но и содержание манифеста, нацеленного на переосмысление пройденного экраном пути. Путь этот (что следует из манифеста) оказался не динамитной деструкцией, способной очистить почву для нового качества, но быстротечной легкой рябью.
Сравнение с новыми волнами справедливо лишь наполовину. «Догма» — явление, апеллирующее к эпохе манифистирующих авангардов. Структура триер-винтербергского манифеста напоминает вертовские воззвания, тогда как содержательная часть отсылает к концепции «промежуточного кино» Сергея Эйзенштейна. (Именно из них «пила свои воды» французская «новая волна»). В случае с «Догмой» эти уже архетипичные теоретические корни проглядывают почти дословно. Достаточно привести некоторые цитаты. «Догма 95» выступает против иллюзии в кино, выдвигает набор неоспоримых правил, как обет целомудрия». И в самом конце: «Отныне клянусь в качестве режиссера воздерживаться от проявлений личного вкуса! Клянусь воздерживаться от создания «произведений», поскольку мгновение ценнее вечности. Моя высшая цель — выжать правду из моих персонажей и обстоятельств. Клянусь исполнять эти правила всеми доступными средствами, не стесняясь соображений хорошего вкуса и каких бы то ни было эстетических концепций». Налицо риторика Вертова: борьба за правду против пошлости актерского кино; активное противопоставление самое себя понятию «искусства», подмена «произведения» неким кино-эквивалентом (в случае с Вертовым использовался термин «кино-вещи»); разложение «авторского участия» (тоже во вполне вертовском духе) и т. д., и т. п. Практические требования «обета целомудрия» (от съемок на натуре до запрещения музыкального оформления, необоснованного внутренним бытием фильма) сквозят духом советского киноавангарда, причудливо связывают Вертова и Эйзенштейна. Первый растворяется во внешнем подходе, второй составляет внутренний нерв кино-движения. Такая конфигурация, впрочем, еще в 20-х годах прошлого века прогнозировалась киноками. По заявлению Вертова, такие ленты суть «игровая фильма в кино-глазовских штанах» — вариант суррогатного компромисса между «игровой» и «неигровой», порожденный мыслью Эйзенштейна.
Иными словами, налицо «вливание» живительных соков документализма в пространство игрового кино. Это то «обновление», какое предсказывал Вертов: «мы это учитываем как результат разложения худ-драмы…». Именно по этому вертовскому вектору шел авангард 50−60-х, большинство новых волн, обновленных кинематографий. И именно в этом векторе совершалась очередная попытка кино-революции.
Триер и его соратники собственными руками продемонстрировали верность курса экспериментального кино на документализм. И поскольку это течение крайне близко современности, кажется, что это лучшее конструктивное доказательство вышеизложенных суждений.
Разумеется, что для этой цели не все формы эксперимента в равной степени адекватны. Воплощая кинематографический парадокс, онтологическую двойственность экрана, экспериментальное кино само становится двойственным.
В пределах эксперимента сосуществуют две формы творчества — естественная и программная, авторская. Если первая способна поддерживать самое себя, имея дело с бесконечно меняющейся действительностью, то вторая, будучи ограниченной авторским концептом, стремится к самоисключению. Программная экспериментальность, с одной стороны, ликвидирует фундаментальность концепта, переводя содержание в зрительскую область субъективной интерпретации, а с другой стороны, лишает ограниченного автора возможности множить собственные формы без закономерного в этом случае самоповторения.
Любое же самоповторение предполагает создание конвенции, некоего «авторского канона», что разрушает антиконвенциональную — вечно создающую новое — природу экспериментального кино.
Как только программность, взращенная ограниченным сознанием автора, упирается в стену самоцельного повторения, уводящего объектив вглубь человеческих фантазий, дальше от реальности, экспериментальное кино мельесовского порядка вынужденно переходит в область реальной и безграничной жизни — капитулирует перед люмьеровской жизненностью. Именно этим объясняются две основополагающие особенности экспериментального авангардного кино.
Во-первых, существенную часть экспериментов осуществляли документалисты. Так, Дзига Вертов, отец экранной документалистики, активно совмещал экспериментальные поиски с собственно документальным творчеством. Начиная с первых «Кино-Правд», перечеркнувших примитив экранного журнала «Кино-Неделя», которая «отличалась от предыдущих хроник разве только тем, что надписи были «Советские» [20], авангардист вырабатывает в прямом контакте с жизнью новые формы кино-выразительности. Формы, составившие костяк наиболее известных его документально-хроникальных лент «Кино-Глаз» (1924) и «Человек с киноаппаратом» (1929). В этом же ключе следует упомянуть Вальтера Руттмана с фильмом «Берлин — симфония большого города» (1927), в котором развивается заложенный Вертовым симфонический кино-ритм, аккумулирующий многогранное биение жизни: всеобъемлющая гармония реальности выявляется в тесном сопряжении множества форм движения немецкой столицы. Фильмы «Мост» (1928) и «Дождь» (1929) Йориса Ивенса, «Только время» (1926) Альберта Кавальканти также связаны с вертовской экспериментальной документалистикой, интерпретируют искания советского режиссера на свой манер.
Неспроста Кавальканти в интервью Герлингхаузу сетовал на то, что многие кино-творцы, зная Вертова-теоретика, не имеют ни малейшего представления о Вертове-практике [21].
Во-вторых, почти все авангардисты впоследствии оказались в лагере неигрового кино.
Дадаисты Ман Рэй, Ганс Рихтер, внесшие свой вклад в развитие и совершенствование киноязыка, позже перешли в область документального кино-репортажа. Первый, к примеру, завершает цикл своих экстравагантных дада-фильмов дневниковыми съемками испанской корриды и некоторых событий личной обыденности. Таким образом, Рэй предвосхищает репортажный язык кино-дневника американского авангардиста Йонаса Мекаса — мастера личного документального переживания на экране. То же касается Майи Дерен, последний фильм которой «Божественные всадники: Живые боги Гаити» (1947−1954) целиком составлен из хроникально-этнографического материала.
Естественное уравнивание экспериментального авангардизма и документального кино в историческом развитии достигло своего оформления в 50−60-х гг. прошлого века. «Обобщая эти явления, можно сказать, что кинодокументализм в наши дни в целом ряде случаев вновь становится авангардом, действенной, активной силой киноискусства…», — утверждал советский исследователь С. В. Дробашенко [22].
И это весьма справедливая оценка. Достаточно привести ряд примеров.
Неореалистическая тенденция в Италии, «новая волна» во Франции (Годар, к примеру, участвовал в художественном объединении имени Дзига Вертова [23]), специфический кино-процесс в Штатах (вспомним «крестного отца нью-йоркского киноавангарда» Йонаса Мекаса), «Свободное кино» Линдсея Андерсона в Англии, питающееся из фондов для производства экспериментальных фильмов Британского киноинститута, и т. п. Все эти авангардные течения стояли на обогащении игрового кино качествами документализма, способствующими внешнему и внутреннему прогрессу экранного искусства в целом.
Все, или почти все, что прогнозировал Вертов, в конце концов выросло и укрепилось в развивающемся кино-пространстве, связав воедино энергию экспериментального авангарда и документально-хроникальное естество экрана.
Неспроста, как кажется, именно в этот период начинается творчество Артавазда Пелешяна, гениального документалиста, который в своих фильмах «Земля людей» (1966), «Начало» (1967), «Мы» (1969) утверждал совершенно новый монтажный подход, новую философию кино как сверхискусства, могущего переломать законы как других художеств, так и самого кино [24].
Тот же процесс проявился и в начале XXI века в лице «Догмы-95» Ларса фон Триера. Это относительно современное, а потому, кажется, наиболее доказательное в нашем случае течение аккумулировало документалистский экстерьер на почве игровой постановки так, что сама постановка, равно как и актерская игра, подчас исключала любую руковторность со стороны автора-режиссера. Последний признавался простым наблюдателем перформативного действия, отрицающим «личный вкус». На триеровском детище — в силу его наибольшей близости современности — следует остановится подробнее.
Некоторые исследователи «догма»-феномена связывают триеровское детище с опытом «новых волн». Основанием тому служит не только характерное родство реализованных на практике киноформ, но и содержание манифеста, нацеленного на переосмысление пройденного экраном пути. Путь этот (что следует из манифеста) оказался не динамитной деструкцией, способной очистить почву для нового качества, но быстротечной легкой рябью.
Сравнение с новыми волнами справедливо лишь наполовину. «Догма» — явление, апеллирующее к эпохе манифистирующих авангардов. Структура триер-винтербергского манифеста напоминает вертовские воззвания, тогда как содержательная часть отсылает к концепции «промежуточного кино» Сергея Эйзенштейна. (Именно из них «пила свои воды» французская «новая волна»). В случае с «Догмой» эти уже архетипичные теоретические корни проглядывают почти дословно. Достаточно привести некоторые цитаты. «Догма 95» выступает против иллюзии в кино, выдвигает набор неоспоримых правил, как обет целомудрия». И в самом конце: «Отныне клянусь в качестве режиссера воздерживаться от проявлений личного вкуса! Клянусь воздерживаться от создания «произведений», поскольку мгновение ценнее вечности. Моя высшая цель — выжать правду из моих персонажей и обстоятельств. Клянусь исполнять эти правила всеми доступными средствами, не стесняясь соображений хорошего вкуса и каких бы то ни было эстетических концепций». Налицо риторика Вертова: борьба за правду против пошлости актерского кино; активное противопоставление самое себя понятию «искусства», подмена «произведения» неким кино-эквивалентом (в случае с Вертовым использовался термин «кино-вещи»); разложение «авторского участия» (тоже во вполне вертовском духе) и т. д., и т. п. Практические требования «обета целомудрия» (от съемок на натуре до запрещения музыкального оформления, необоснованного внутренним бытием фильма) сквозят духом советского киноавангарда, причудливо связывают Вертова и Эйзенштейна. Первый растворяется во внешнем подходе, второй составляет внутренний нерв кино-движения. Такая конфигурация, впрочем, еще в 20-х годах прошлого века прогнозировалась киноками. По заявлению Вертова, такие ленты суть «игровая фильма в кино-глазовских штанах» — вариант суррогатного компромисса между «игровой» и «неигровой», порожденный мыслью Эйзенштейна.
Иными словами, налицо «вливание» живительных соков документализма в пространство игрового кино. Это то «обновление», какое предсказывал Вертов: «мы это учитываем как результат разложения худ-драмы…». Именно по этому вертовскому вектору шел авангард 50−60-х, большинство новых волн, обновленных кинематографий. И именно в этом векторе совершалась очередная попытка кино-революции.
Триер и его соратники собственными руками продемонстрировали верность курса экспериментального кино на документализм. И поскольку это течение крайне близко современности, кажется, что это лучшее конструктивное доказательство вышеизложенных суждений.
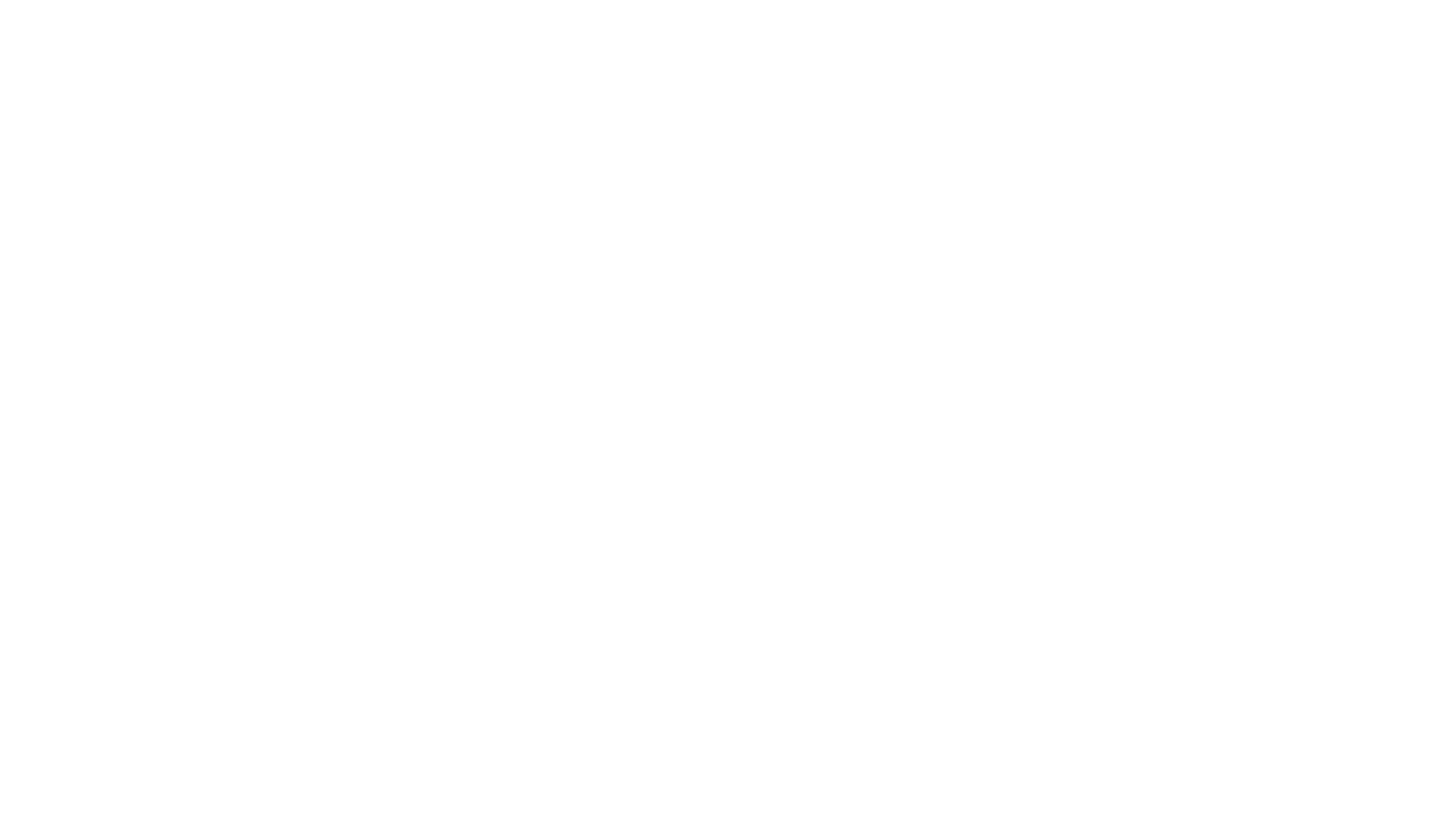
«Дождь» (1929) / реж. Йорис Ивенс
ЗАВЕРШЕНИЕ ПОД ЭГИДОЙ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ХРОНИКАЛЬНОГО
Экспериментальное кино как самостоятельная область творчества завершается на документализме. Последний перенимает задачи, возложенные на эксперимент.
Документальный кинематограф сам становится авангардом! Впрочем, лучше сказать, возвращается к исходной авангардной природе, ибо эксперимент изначально возник, как я старался показать выше, из документально-хроникальной необходимости запечатлевать движение жизни. Неспроста, как кажется, Наталья Мещанинова, режиссер сериала «Пингвины моей матери», откровенно заявляет: «Все игровики *** [воруют] у документального кино, я не исключение» [25].
Развитие киноискусства, совершенствование киноязыка, достижение сверх-позиции — ключевые цели экспериментального кино — становятся естественными свойствами кино документального. Ибо только документализм способен преодолеть диктат других искусств, обеспечить самостоятельность кино, возвысить, развить экран и исполнить, тем самым, мечту всех кино-авангардистов.
И это действительно важно.
Документальный кинематограф сам становится авангардом! Впрочем, лучше сказать, возвращается к исходной авангардной природе, ибо эксперимент изначально возник, как я старался показать выше, из документально-хроникальной необходимости запечатлевать движение жизни. Неспроста, как кажется, Наталья Мещанинова, режиссер сериала «Пингвины моей матери», откровенно заявляет: «Все игровики *** [воруют] у документального кино, я не исключение» [25].
Развитие киноискусства, совершенствование киноязыка, достижение сверх-позиции — ключевые цели экспериментального кино — становятся естественными свойствами кино документального. Ибо только документализм способен преодолеть диктат других искусств, обеспечить самостоятельность кино, возвысить, развить экран и исполнить, тем самым, мечту всех кино-авангардистов.
И это действительно важно.
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.
Дзига Вертов, «Из наследия. Статьи и выступления», статья «Киноки.Переворот»
Ганс Рихтер, «ДАДА: искусство и антиискусство»
Сборник «Правда кино и «кино-правда»
Дзига Вертов, «Из наследия. Статьи и выступления»
Андрей Тарковский, «Запечатленное время»
Марсель Мартен, «Киноправда», «Cinema, 63», №72
Игорь Беленький, «История кино»
Цит. по книге Ганса Рихтера «ДАДА: искусство и антиискусство»
См. сборник «Я стану твоим зеркалом: Избранные интервью Энди Уорхола (1962–1987)»
Цит. по сборнику «Правда кино и «кино-правда»
Цит. по книге Рене Клера «Размышления о киноискусстве»
Сергей Добротворский, статья «Киноавангард — нарушитель конвенции»
Цит. по книге Гуидо Аристарко «История теорий кино»
Андрей Тарковский, «Запечатленное время»
Сергей Добротворский, статья «Киноавангард — нарушитель конвенции»
Цит. по книге Гуидо Аристарко «История теорий кино»
Гуидо Аристарко, «История теорий кино»
Дзига Вертов, «Из наследия. Статьи и выступления», манифест «Мы»
Артавазд Пелешян, «Дистанционный монтаж»
Дзига Вертов, «Из наследия. Статьи и выступления», «Доклад Дзиги Вертова» о «Кино-правде» 9-го июня 1924 г.
См. сборник Германа Герлингхауза «Кинодокументалисты мира в битвах нашего времени»
См. сборник «Правда кино и «кино-правда»
См. книгу Эмили Бикертон «Краткая история Кайе дю синема»
https://cinetexts.ru/under_the_feather
https://esquire.ru/hero/298083-nataliya-meshchaninova-o-seriale-pingviny-moey-mamy-presledovanii-komikov-zhenskom-kino-i-priemnyh-detyah/