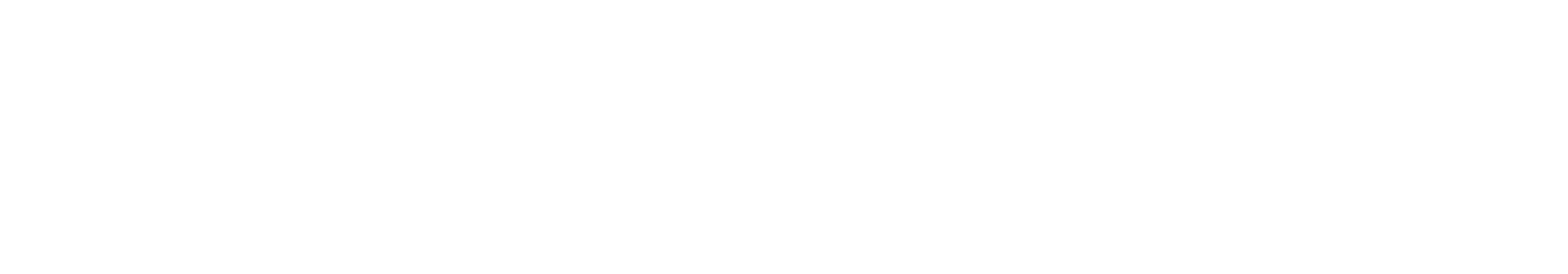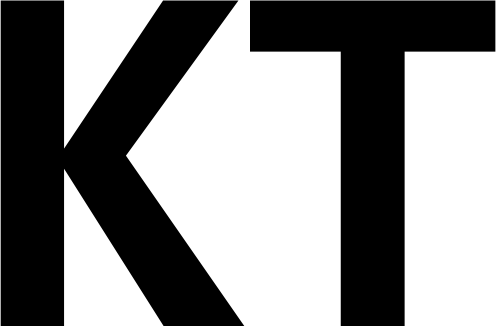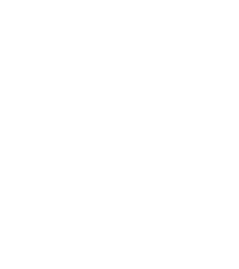АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 3 НОЯБРЯ 2021
ОПЛОТ БЕЗОТРАДНОЙ ЛЮБВИ: ФИГУРЫ ОТСТУПЛЕНИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ ДИНАРЫ АСАНОВОЙ
Образы, повторяющиеся и развивающиеся на всем протяжении творчества советского режиссера Динары Асановой
ОПЛОТ БЕЗОТРАДНОЙ ЛЮБВИ: ФИГУРЫ ОТСТУПЛЕНИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ ДИНАРЫ АСАНОВОЙ
АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 03.11.2021
Образы, повторяющиеся и развивающиеся на всем протяжении творчества советского режиссера Динары Асановой
ОПЛОТ БЕЗОТРАДНОЙ ЛЮБВИ: ФИГУРЫ ОТСТУПЛЕНИЯ В КИНЕМАТОГРАФЕ ДИНАРЫ АСАНОВОЙ
АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 03.11.2021
Образы, повторяющиеся и развивающиеся на всем протяжении творчества советского режиссера Динары Асановой
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Три кинематографических образа, повторяющиеся и развивающиеся на всем протяжении творчества советского режиссера Динары Асановой (1942−1985), я назову фигурами отступления и постараюсь показать, как каждая из них связан с углублявшимся кризисом советской модели социального государства. Не подвергаемые диегетической интерпетации, они, тем не менее, образуют своего рода метатекст, позволяющий проследить и обозначить социальные и экзистенциальные проблемы постоттепельного периода, артикулировавшиеся Динарой параллельно кинематографическому действию, построенному ею на ограничивающем область высказывания идейном базисе этики и педагогики.
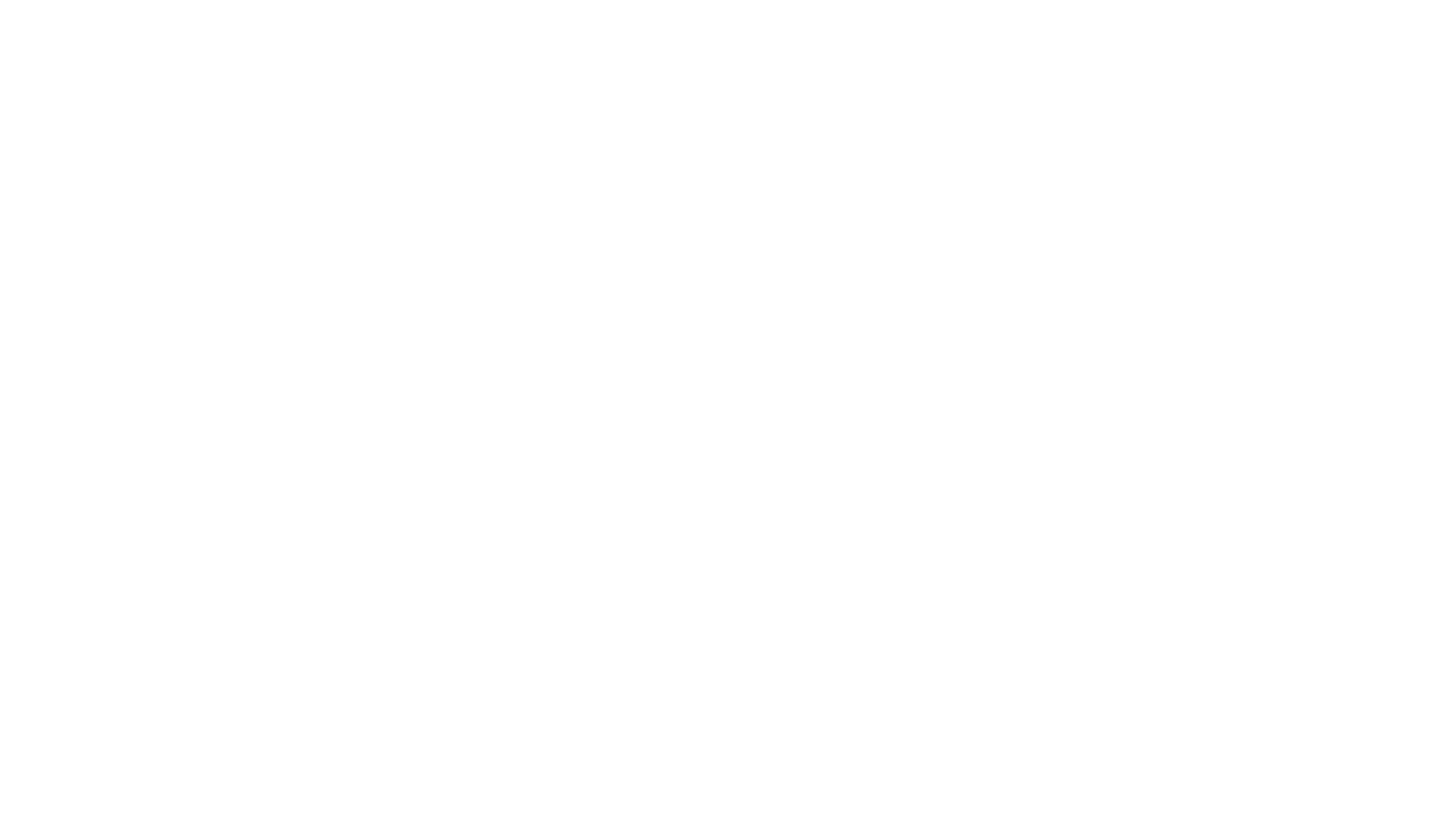
«Рудольфио» (1968)
ТРУД ДИСЦИПЛИНИРУЮЩИЙ И ТВОРЧЕСКИЙ
В автобусе светловолосая девятиклассница Ио ласково треплет по плечу задремавшего у окошка мужчину. Располагающий к себе своей суровой ясностью хемингуэевский тип — Рудольф (сыгранный Юрием Визбором) немало удивлен осведомленности девушки о том, где он живет, на какой остановке выходит и в котором часу приезжает домой. Завязавшуюся по дороге беседу прерывают предупреждением «Поберегись!» рабочие, расставляющие по местам скамейки в новом жилом районе.
В дебютной короткометражке Динары Асановой «Рудольфио» (1968) камера принципиально старается избегать сцен социально полезного труда. Следуя за переполненной чувствами первой любви Ио, она огибает или минует их, чтобы уделить особое внимание завораживающей красоте непринужденных движений. Пока старик косит траву, ребята толкают автомобиль, а мужчины чинят антенну, детишки во дворе весело надувают шары и, когда те выскальзывают из их рук, горько плачут навзрыд. Этот пассаж смонтирован из нескольких коротких кусочков пленки, к которым возвращаются, чтобы прервать основное действие фильма, мелодически структурировав вальсовые па Ио. Напротив, сцена встречи с Рудольфом на крыше построена из нескольких снятых субъективной камерой непрерывных планов и утверждает развивающуюся на всем остальном протяжении фильма мысль: чувства детей головокружительны — и они нарушают любой общепринятый социальный порядок. Там, где для героя Визбора — моряка, писателя и мастера на все руки — резкая и смелая Ио «все еще девчонка», прогуливающая школу и подшучивающая над странным именем своего возлюбленного, появляется их воображаемый союз — «Рудольфио», призванный найти способ ничем не опосредованного межличностного понимания.
Вышедший через семь лет фильм «Не болит голова у дятла» (1975) точно так же — по касательной, все еще надеясь на то, что отцы и дети смогут понять друг друга — продолжит визуально противопоставлять творческую необузданную спонтанность общепринятым нормам трудовой этики советского общества. Жизнь Севы Мухина, доброго и беспокойного юноши, чью энергию может выразить только неровный джазовый ритм, очень похожий на тот, с которым дятел стучит по дереву, проходит вне внимания отца и бабушки. По сравнению с братом — мастером спорта по баскетболу и любимцем советской публики — он аутсайдер, на счет которого никто не питает никаких надежд. Его уникальный музыкальный слух, узнающий песенные мелодики даже в скрипе ржавых ворот, резонирует с яростью бессильного что-либо изменить юноши — и выливается в неумелую, но яркую игру на барабанах.
Шум барабанной установки раздражает брата и ближайших соседей, которым нужно хорошо высыпаться, чтобы как следует выполнять свои трудовые обязанности (в спортзале или парикмахерской). Каждый из них мечтает раз и навсегда избавиться от надоевшего инструмента. Намеченный духовно-идеологический конфликт в фильме обостряется в сюжетно незначительной, но эмоционально достоверной короткой сценке. Когда сосед Севы по прозвищу Стакан Стаканыч вытаскивает из сарая заржавленные барабаны и складывает их в одну кучу с металлоломом, его замечает репетирующий на балконе выше этажом мальчик-скрипач. Чтобы остановить произвол, он, нарушив указания озабоченной его музыкальной карьерой матери, бежит за взрослыми, прося их только об одном — вернуть барабаны на место. Поняв, что мальчишка от них не отстанет, они презрительно складывают перед ним инструмент и уезжают. Скрипач берет в одну руку — стойку с тарелкой, в другую — большой барабан и медленно бредет обратно, несмотря на тяжесть взятой им ноши.
Образование и труд спаяны настолько крепко, что будущее человека напрямую зависит от их координации и непрерывного движения от одной инстанции власти к другой. Неравномерность доступа к получению знаний в ранние советские годы создала еще и внутрипоколенческий разрыв, способствовавший дальнейшему классовому расслоению общества.
«Беда» (1977), демонстрирующая чудовищную историю алкоголизма Вячеслава Кулигина, наполнена характерными образами обескровленной надежды, от чего песня Окуджавы в исполнении двух юных школьниц в начале картины приобретает драматическое звучание. Пролетающие в небе самолеты напоминают Вячеславу о том, что он, сколь бы не было сильно его желаний, разбитый алкоголем и низкими нравами сельского окружения никогда не сможет сам собрать прекрасный воздушный лайнер. Тюремное перевоспитание — способ побороть разлагающую сознание болезнь, но не вернуть время назад. Отсюда висящие на ветках и покрытые сверкающим снегом сморщившиеся яблоки в финале картины вызывают множество интеллектуальных ассоциаций, одна из которых связана с не сорванным плодом знаний. Вкусивший его едва ли сможет приобщиться таким образом к высокой культуре.
Другой стороной классового неравенства, в советском обществе сформировавшемся вокруг распределения привилегий по праву административного управления производительной собственностью, становится экономически мотивированное подчинение внутри семьи одних ее членов другим. Именно своим социальным положением пытается надавить на сбежавшую из дома супругу-филолога герой Валерия Приемыхова в фильме «Жена ушла» (1979). Большой начальник в строительном департаменте, Александр, не скупясь на жестокие слова и угрозы, убеждает уставшую от его равнодушия и функционального восприятия собственной личности жену в том, что без него она будет всего лишь «библиотекаршей на сто рублей с дурацкими идеями всяких там диссертаций».
Однако в фильмах Асановой нет ничего страшнее, чем потерять отца — силу, способную при должной усидчивости направить в созидательное русло бушующую энергию молодости. Убедительное тому свидетельство — со слезами на глазах обнимающий папу Витька из фильма «Жена ушла», ранее огрызавшийся и хамивший ему, а также отец Севы Мухина, решившийся после разговора с учительницей сам сесть за ударную установку сына и наиграть ритм дорогой его сердцу фронтовой песни. Мужская фигура, воплощающая идеал истинной мужественности, описанный авторами потерянного поколения в своих книгах, выступает у режиссера своего рода гарантом «социального компромисса», выработанного брежневской эпохой, попытавшейся примирить все индивидуальное с нормативным и вынужденным. Таковы у Асановой директор школы — бывший военный — в «Ключе без права передачи» (1976) и академик, помогающий Володе, фактически растущему без отца, вернуться домой полным новых мечтаний в картине «Что бы ты выбрал?» (1981).
В восьмидесятых по мере того, как росла общественная атомизация, и новое поколение становилось все более агрессивным и неуправляемым, говорить о любви и взаимной поддержке как о средствах преодоления отчуждения теперь казалось невозможным. Динаре, работавшей в те годы над своими самыми сложными фильмами «Никудышная» (1980), «Пацаны» (1983) и «Милый, дорогой, любимый единственный…» (1984), даже пришлось признать, что чем больше она смотрела на этих детей, тем меньше их понимала.
В дебютной короткометражке Динары Асановой «Рудольфио» (1968) камера принципиально старается избегать сцен социально полезного труда. Следуя за переполненной чувствами первой любви Ио, она огибает или минует их, чтобы уделить особое внимание завораживающей красоте непринужденных движений. Пока старик косит траву, ребята толкают автомобиль, а мужчины чинят антенну, детишки во дворе весело надувают шары и, когда те выскальзывают из их рук, горько плачут навзрыд. Этот пассаж смонтирован из нескольких коротких кусочков пленки, к которым возвращаются, чтобы прервать основное действие фильма, мелодически структурировав вальсовые па Ио. Напротив, сцена встречи с Рудольфом на крыше построена из нескольких снятых субъективной камерой непрерывных планов и утверждает развивающуюся на всем остальном протяжении фильма мысль: чувства детей головокружительны — и они нарушают любой общепринятый социальный порядок. Там, где для героя Визбора — моряка, писателя и мастера на все руки — резкая и смелая Ио «все еще девчонка», прогуливающая школу и подшучивающая над странным именем своего возлюбленного, появляется их воображаемый союз — «Рудольфио», призванный найти способ ничем не опосредованного межличностного понимания.
Вышедший через семь лет фильм «Не болит голова у дятла» (1975) точно так же — по касательной, все еще надеясь на то, что отцы и дети смогут понять друг друга — продолжит визуально противопоставлять творческую необузданную спонтанность общепринятым нормам трудовой этики советского общества. Жизнь Севы Мухина, доброго и беспокойного юноши, чью энергию может выразить только неровный джазовый ритм, очень похожий на тот, с которым дятел стучит по дереву, проходит вне внимания отца и бабушки. По сравнению с братом — мастером спорта по баскетболу и любимцем советской публики — он аутсайдер, на счет которого никто не питает никаких надежд. Его уникальный музыкальный слух, узнающий песенные мелодики даже в скрипе ржавых ворот, резонирует с яростью бессильного что-либо изменить юноши — и выливается в неумелую, но яркую игру на барабанах.
Шум барабанной установки раздражает брата и ближайших соседей, которым нужно хорошо высыпаться, чтобы как следует выполнять свои трудовые обязанности (в спортзале или парикмахерской). Каждый из них мечтает раз и навсегда избавиться от надоевшего инструмента. Намеченный духовно-идеологический конфликт в фильме обостряется в сюжетно незначительной, но эмоционально достоверной короткой сценке. Когда сосед Севы по прозвищу Стакан Стаканыч вытаскивает из сарая заржавленные барабаны и складывает их в одну кучу с металлоломом, его замечает репетирующий на балконе выше этажом мальчик-скрипач. Чтобы остановить произвол, он, нарушив указания озабоченной его музыкальной карьерой матери, бежит за взрослыми, прося их только об одном — вернуть барабаны на место. Поняв, что мальчишка от них не отстанет, они презрительно складывают перед ним инструмент и уезжают. Скрипач берет в одну руку — стойку с тарелкой, в другую — большой барабан и медленно бредет обратно, несмотря на тяжесть взятой им ноши.
Образование и труд спаяны настолько крепко, что будущее человека напрямую зависит от их координации и непрерывного движения от одной инстанции власти к другой. Неравномерность доступа к получению знаний в ранние советские годы создала еще и внутрипоколенческий разрыв, способствовавший дальнейшему классовому расслоению общества.
«Беда» (1977), демонстрирующая чудовищную историю алкоголизма Вячеслава Кулигина, наполнена характерными образами обескровленной надежды, от чего песня Окуджавы в исполнении двух юных школьниц в начале картины приобретает драматическое звучание. Пролетающие в небе самолеты напоминают Вячеславу о том, что он, сколь бы не было сильно его желаний, разбитый алкоголем и низкими нравами сельского окружения никогда не сможет сам собрать прекрасный воздушный лайнер. Тюремное перевоспитание — способ побороть разлагающую сознание болезнь, но не вернуть время назад. Отсюда висящие на ветках и покрытые сверкающим снегом сморщившиеся яблоки в финале картины вызывают множество интеллектуальных ассоциаций, одна из которых связана с не сорванным плодом знаний. Вкусивший его едва ли сможет приобщиться таким образом к высокой культуре.
Другой стороной классового неравенства, в советском обществе сформировавшемся вокруг распределения привилегий по праву административного управления производительной собственностью, становится экономически мотивированное подчинение внутри семьи одних ее членов другим. Именно своим социальным положением пытается надавить на сбежавшую из дома супругу-филолога герой Валерия Приемыхова в фильме «Жена ушла» (1979). Большой начальник в строительном департаменте, Александр, не скупясь на жестокие слова и угрозы, убеждает уставшую от его равнодушия и функционального восприятия собственной личности жену в том, что без него она будет всего лишь «библиотекаршей на сто рублей с дурацкими идеями всяких там диссертаций».
Однако в фильмах Асановой нет ничего страшнее, чем потерять отца — силу, способную при должной усидчивости направить в созидательное русло бушующую энергию молодости. Убедительное тому свидетельство — со слезами на глазах обнимающий папу Витька из фильма «Жена ушла», ранее огрызавшийся и хамивший ему, а также отец Севы Мухина, решившийся после разговора с учительницей сам сесть за ударную установку сына и наиграть ритм дорогой его сердцу фронтовой песни. Мужская фигура, воплощающая идеал истинной мужественности, описанный авторами потерянного поколения в своих книгах, выступает у режиссера своего рода гарантом «социального компромисса», выработанного брежневской эпохой, попытавшейся примирить все индивидуальное с нормативным и вынужденным. Таковы у Асановой директор школы — бывший военный — в «Ключе без права передачи» (1976) и академик, помогающий Володе, фактически растущему без отца, вернуться домой полным новых мечтаний в картине «Что бы ты выбрал?» (1981).
В восьмидесятых по мере того, как росла общественная атомизация, и новое поколение становилось все более агрессивным и неуправляемым, говорить о любви и взаимной поддержке как о средствах преодоления отчуждения теперь казалось невозможным. Динаре, работавшей в те годы над своими самыми сложными фильмами «Никудышная» (1980), «Пацаны» (1983) и «Милый, дорогой, любимый единственный…» (1984), даже пришлось признать, что чем больше она смотрела на этих детей, тем меньше их понимала.
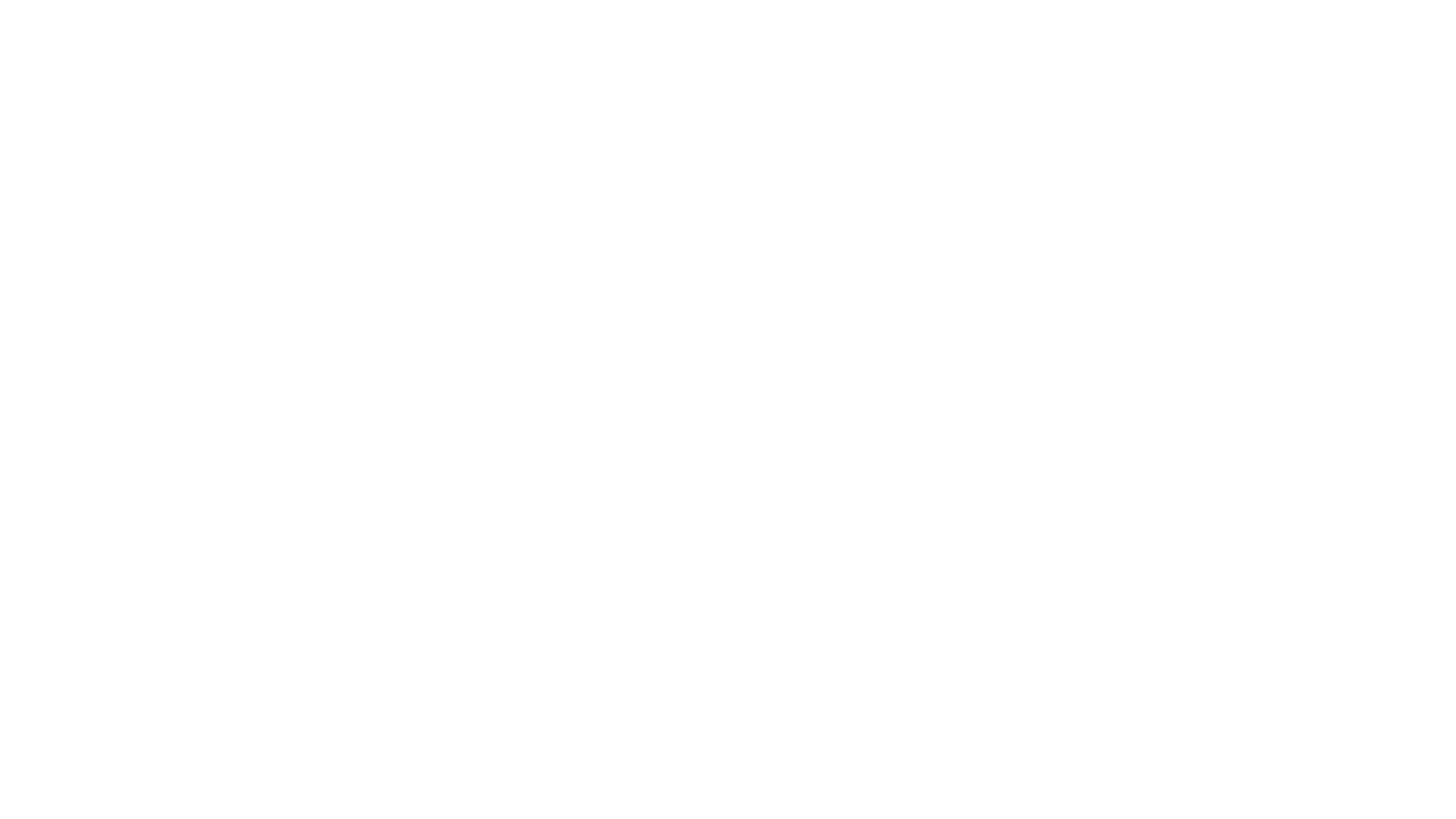
«Ключ без права передачи» (1976)
ПРОСТРАНСТВА СЛОВ
Чтобы достичь насыщенности второго плана в своих картинах Асанова использовала приемы документального кино и репортажную манеру съемки, давая выговориться детям и окружающим их пространствам, хорошо понимая при этом, каким местам приличествуют те или иные слова. Это важно, поскольку камера, врывающаяся всякий раз в «чужое болото», делает зрителя невольным свидетелем того, что не каждому хочется замечать, а именно — нарушающей баланс общественных сил индивидуальной правды.
Непокорные школьной дисциплине учащиеся 10Б в «Ключе…» выражают свою позицию открыто только на уроках литературы у молодой Марины Максимовны и у нее дома, где они могут не опасаться прослыть опасными гордецами. По своей сути, первая сцена в классе и последующая в зимней хижине представляют собой интервью, с помощью которых ребята обращаются «ко всему человечеству» сразу, пытаясь говорить о страхе за свое будущее, материальных трудностях и желании «прожить жизнь так, чтобы потом ни о чем не жалеть». Марина Максимовна, стараясь вырастить из своих воспитанников честных и сознательных людей, открывает им и другие «островки свободы», скрывающиеся под саваном официальной культуры. Так, нам дают увидеть на экране чтение стихов, посвященных юбилею Пушкина, в исполнении Беллы Ахмадулиной, Давида Самойлова, Булата Окуджавы и других популярных поэтов эпохи, создавших особую «неоклассическую» форму восприятия позднесоветской действительности, непомерно далекой от образцов галантной культуры XIX века, вдохновлявшей их.
Как только в руки директора и завуча попадает аудиозапись с разговорами одноклассников, сильная духом Марина Максимовна, вопреки скепсису Саши Майданова, хорошо понимающего правила корпоративной солидарности, открыто выступает в защиту учеников перед коллективом учителей. Либерально настроенный директор, прося понять простую вещь, что не все, кто работают в школе — находятся на своем месте, не дает педагогическому составу лишиться ценного и грамотного специалиста. Слово изобличающей истины оказывается погашено ради общего блага. Социальная дезориентация становится видимой, но ее принимают, как горький факт повседневной жизни, для своей амортизации требующий гибких управленческих решений.
От фильмов Асановой, снятых в семидесятые, создается впечатление, что мир ребенка, несмотря на все ограничения, видится ею более свободным, чем мир взрослого, поскольку он обладает своим уникальным джазовым ритмом, рожденным природой. Дети — органичны, они чувствуют множественность звуков, запахов, ландшафтов и порывов ветра. То, что находит Севка Мухин в танцзале на репетициях музыкальной группы, он обнаружил ранее в лесной чащобе. Аня из «Никудышной», отправленная «в ссылку» уставшими от забот родителями к бабушке в деревню, уходит в леса следом за нелюдимым стариком, чтобы, в конце концов, почувствовать человеческое доверие — и, перестав заикаться, говорить уверенно о своих чувствах. Покинувший здание суда Вова Киреев в фильме «Пацаны», уже по дороге в трудовой лагерь срывается с места и взбирается на пригорок, чтобы кубарем скатиться вниз по высокой траве.
Оживляющий сердце ритм природных стихий взрослые больше не считывают. В фильме «Жена ушла» веселая игра супруги с другом семьи на песчаном пляже заставляет Александра ревновать. Ночные луга в «Беде» укутывают травой пьяное тело Кулыгина, пока он ревет от алкогольной одури. Еще опаснее — замкнутое пространство квартиры, где применение силы или психологического давления главной семьи не заставляет себя долго ждать. Репортажная камера, проходя по всей площади дома, следуя за героями на работу или со школы, захватывает в объектив хрупкость и нестабильность положения каждого, кто решился, руководствуясь общепринятой логикой жизнестроительства, связать свою судьбу с кем-либо навсегда. Подробный рассказ Ирины из фильма «Не болит голова у дятла» об ожидающем ее будущем — учеба, работа, свадьба, дети-внуки и смерть — заставляют Муху чувствовать себя неловко из-за того, что его предназначение кажется ему не столь очевидным и предсказуемым. В ленте «Что бы ты выбрал?» маленькое предательство тайно любимой одноклассницы, вроде разбитого ею аквариума в школе, за который мальчишке пришлось взять вину на себя, позднее приобретает символическую завершенность в образе невесты, убегающей со свадьбы за руку с пришедшим на торжество любовником.
«Беллетристическая» дидактика в духе Януша Корчака о любви к детям девальвируется самим ходом вещей, когда на первый план жизни выходит достаток и потребление. Любить кого-либо — совсем не выгодно, но это вовсе не означает, что любовью и ее языком нельзя пользоваться функционально.
Непокорные школьной дисциплине учащиеся 10Б в «Ключе…» выражают свою позицию открыто только на уроках литературы у молодой Марины Максимовны и у нее дома, где они могут не опасаться прослыть опасными гордецами. По своей сути, первая сцена в классе и последующая в зимней хижине представляют собой интервью, с помощью которых ребята обращаются «ко всему человечеству» сразу, пытаясь говорить о страхе за свое будущее, материальных трудностях и желании «прожить жизнь так, чтобы потом ни о чем не жалеть». Марина Максимовна, стараясь вырастить из своих воспитанников честных и сознательных людей, открывает им и другие «островки свободы», скрывающиеся под саваном официальной культуры. Так, нам дают увидеть на экране чтение стихов, посвященных юбилею Пушкина, в исполнении Беллы Ахмадулиной, Давида Самойлова, Булата Окуджавы и других популярных поэтов эпохи, создавших особую «неоклассическую» форму восприятия позднесоветской действительности, непомерно далекой от образцов галантной культуры XIX века, вдохновлявшей их.
Как только в руки директора и завуча попадает аудиозапись с разговорами одноклассников, сильная духом Марина Максимовна, вопреки скепсису Саши Майданова, хорошо понимающего правила корпоративной солидарности, открыто выступает в защиту учеников перед коллективом учителей. Либерально настроенный директор, прося понять простую вещь, что не все, кто работают в школе — находятся на своем месте, не дает педагогическому составу лишиться ценного и грамотного специалиста. Слово изобличающей истины оказывается погашено ради общего блага. Социальная дезориентация становится видимой, но ее принимают, как горький факт повседневной жизни, для своей амортизации требующий гибких управленческих решений.
От фильмов Асановой, снятых в семидесятые, создается впечатление, что мир ребенка, несмотря на все ограничения, видится ею более свободным, чем мир взрослого, поскольку он обладает своим уникальным джазовым ритмом, рожденным природой. Дети — органичны, они чувствуют множественность звуков, запахов, ландшафтов и порывов ветра. То, что находит Севка Мухин в танцзале на репетициях музыкальной группы, он обнаружил ранее в лесной чащобе. Аня из «Никудышной», отправленная «в ссылку» уставшими от забот родителями к бабушке в деревню, уходит в леса следом за нелюдимым стариком, чтобы, в конце концов, почувствовать человеческое доверие — и, перестав заикаться, говорить уверенно о своих чувствах. Покинувший здание суда Вова Киреев в фильме «Пацаны», уже по дороге в трудовой лагерь срывается с места и взбирается на пригорок, чтобы кубарем скатиться вниз по высокой траве.
Оживляющий сердце ритм природных стихий взрослые больше не считывают. В фильме «Жена ушла» веселая игра супруги с другом семьи на песчаном пляже заставляет Александра ревновать. Ночные луга в «Беде» укутывают травой пьяное тело Кулыгина, пока он ревет от алкогольной одури. Еще опаснее — замкнутое пространство квартиры, где применение силы или психологического давления главной семьи не заставляет себя долго ждать. Репортажная камера, проходя по всей площади дома, следуя за героями на работу или со школы, захватывает в объектив хрупкость и нестабильность положения каждого, кто решился, руководствуясь общепринятой логикой жизнестроительства, связать свою судьбу с кем-либо навсегда. Подробный рассказ Ирины из фильма «Не болит голова у дятла» об ожидающем ее будущем — учеба, работа, свадьба, дети-внуки и смерть — заставляют Муху чувствовать себя неловко из-за того, что его предназначение кажется ему не столь очевидным и предсказуемым. В ленте «Что бы ты выбрал?» маленькое предательство тайно любимой одноклассницы, вроде разбитого ею аквариума в школе, за который мальчишке пришлось взять вину на себя, позднее приобретает символическую завершенность в образе невесты, убегающей со свадьбы за руку с пришедшим на торжество любовником.
«Беллетристическая» дидактика в духе Януша Корчака о любви к детям девальвируется самим ходом вещей, когда на первый план жизни выходит достаток и потребление. Любить кого-либо — совсем не выгодно, но это вовсе не означает, что любовью и ее языком нельзя пользоваться функционально.
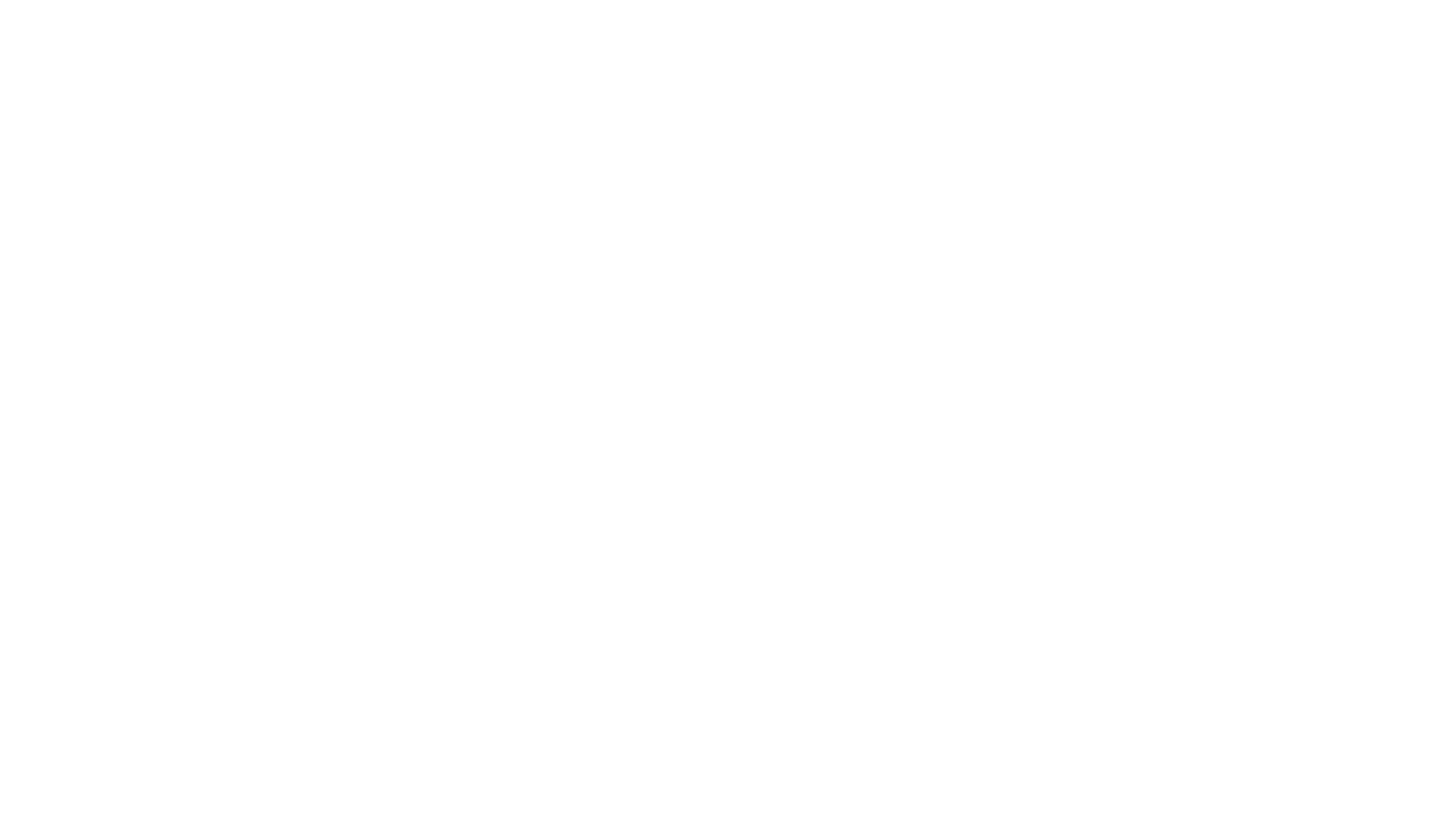
«Пацаны» (1983)
СТЕКЛЯННЫЕ ГЛАЗА ЧУВСТВ
Взгляд на человека и его окружение через мутное стекло — важный прием асановского кинематографа, использующийся практически в каждой картине режиссера, чтобы подчеркнуть дистанцию между людьми и их недосягаемость друг для друга.
Рудольф смотрит на укутанные дождем улицы города через стекло автобуса. Точно так же Ио, заняв наблюдательный пост на крыше, ищет его повсюду взглядом. После трудной нравственной беседы, которую мама девочки попроси провести с ней, мужчина долго не может оторвать глаз от окна. Наблюдая вместе с ним за тем, как попавшая под ливень девушка уходит из его жизни (ее лицо оказывается буквально покрыто реками слез), зритель тоже готовится проститься с нежным образом Рудольфио, пока в завершающий момент картины на экране не возникнет онирический образ двух влюбленных, гуляющих после дождя на загородной дорожке. Начало «Ключа…» построено по тому же принципу: школьники льнут к толстой стеклянной стене и их фигуры размываются, становясь нежными силуэтами безличных мальчиков и девочек.
Один из наиболее запоминающихся визуальных образов картины «Жена ушла» построен вокруг того, как Вера, супруга Александра, отказав ему в любовном желании, стоит одна на кухне у большого окна и смотрит на ночной дворик, покрытый холодным синим свечением. По утру, не найдя жены дома, Саша точно так же будет безнадежно высматривать ее на темно-оранжевой от осенних листьев улице. Главные герои фильма «Милый, дорогой, любимый единственный…», Анна и Вадим, большую часть хронометража проводят в автомобиле, скрываясь от родителей украденного девушкой ребенка, и мимо них в забрызганном влагой стекле проносится ночной Ленинград с его неоновыми вывесками универмагов и аэропортов. Особенно интересен в этом отношении финал ленты «Что бы ты выбрал?» — камера, снимая крупным планом засыпающего мальчика, дважды расфокусируется, стирая его очертания.
Нередко герои Асановой, напрямую уставившись в объектив, смотрят друг другу в глаза через камеру, но не могут понять ни мыслей, владеющих ближним, ни обнаружить в них ответного чувства любви. Эффект отчуждения усиливает параллельный монтаж, отводящий им разные плоскости существования, которым не суждено пересечься. Свое наиболее рельефное выражение эта фигура получает в последних фильмах Динары, например, в «Милом…», когда Вадим, узнав о поступке Анны, в гневе уезжает, не обращая внимания на то, как девушка бежит за автомобилем, умоляя ее простить. Спровоцированный деспотичным вторым воспитателем трудового лагеря и увенчанный пожаром бунт подростков в «Пацанах» заставляет злого от непонимания Павла созвать всех участвовавших в погроме на улицу и потребовать каждого смотреть на него, не пряча стыдливо глаза в пол. Отдавший столько любви и заботы этим мальчишкам, влачившим до знакомства с ним жалкое существование нищих и беспризорников, он надеется увидеть в их «зеркалах души» хотя бы каплю раскаяния. Но трагичность положения его воспитанников заключается в том, что раскаяние не изменит условий, подтолкнувших их к криминалу — они связаны с ними кровавыми узами рода.
В ситуациях, когда люди теряют то общее, что некогда связывало их, практически ни у кого не получается сказать последнего — и самого важного — слова. Бегущий изо всех сил из детского лагеря на железнодорожный вокзал Вова не успеет попрощаться с Ирой — поезд тронется до того, как он успеет вскочить на перрон. Похожие сцены встречаются в фильмах «Жена ушла» и «Милый…»: носящиеся по аэропорту Александр с сыном не могут различить жену в толпе, а схваченная милицией Анна — встретиться со слепо любимым ею мужчиной, что, воспользовавшись ею неопытностью, вовсе и не собирался продолжать с ней связь.
Рудольф смотрит на укутанные дождем улицы города через стекло автобуса. Точно так же Ио, заняв наблюдательный пост на крыше, ищет его повсюду взглядом. После трудной нравственной беседы, которую мама девочки попроси провести с ней, мужчина долго не может оторвать глаз от окна. Наблюдая вместе с ним за тем, как попавшая под ливень девушка уходит из его жизни (ее лицо оказывается буквально покрыто реками слез), зритель тоже готовится проститься с нежным образом Рудольфио, пока в завершающий момент картины на экране не возникнет онирический образ двух влюбленных, гуляющих после дождя на загородной дорожке. Начало «Ключа…» построено по тому же принципу: школьники льнут к толстой стеклянной стене и их фигуры размываются, становясь нежными силуэтами безличных мальчиков и девочек.
Один из наиболее запоминающихся визуальных образов картины «Жена ушла» построен вокруг того, как Вера, супруга Александра, отказав ему в любовном желании, стоит одна на кухне у большого окна и смотрит на ночной дворик, покрытый холодным синим свечением. По утру, не найдя жены дома, Саша точно так же будет безнадежно высматривать ее на темно-оранжевой от осенних листьев улице. Главные герои фильма «Милый, дорогой, любимый единственный…», Анна и Вадим, большую часть хронометража проводят в автомобиле, скрываясь от родителей украденного девушкой ребенка, и мимо них в забрызганном влагой стекле проносится ночной Ленинград с его неоновыми вывесками универмагов и аэропортов. Особенно интересен в этом отношении финал ленты «Что бы ты выбрал?» — камера, снимая крупным планом засыпающего мальчика, дважды расфокусируется, стирая его очертания.
Нередко герои Асановой, напрямую уставившись в объектив, смотрят друг другу в глаза через камеру, но не могут понять ни мыслей, владеющих ближним, ни обнаружить в них ответного чувства любви. Эффект отчуждения усиливает параллельный монтаж, отводящий им разные плоскости существования, которым не суждено пересечься. Свое наиболее рельефное выражение эта фигура получает в последних фильмах Динары, например, в «Милом…», когда Вадим, узнав о поступке Анны, в гневе уезжает, не обращая внимания на то, как девушка бежит за автомобилем, умоляя ее простить. Спровоцированный деспотичным вторым воспитателем трудового лагеря и увенчанный пожаром бунт подростков в «Пацанах» заставляет злого от непонимания Павла созвать всех участвовавших в погроме на улицу и потребовать каждого смотреть на него, не пряча стыдливо глаза в пол. Отдавший столько любви и заботы этим мальчишкам, влачившим до знакомства с ним жалкое существование нищих и беспризорников, он надеется увидеть в их «зеркалах души» хотя бы каплю раскаяния. Но трагичность положения его воспитанников заключается в том, что раскаяние не изменит условий, подтолкнувших их к криминалу — они связаны с ними кровавыми узами рода.
В ситуациях, когда люди теряют то общее, что некогда связывало их, практически ни у кого не получается сказать последнего — и самого важного — слова. Бегущий изо всех сил из детского лагеря на железнодорожный вокзал Вова не успеет попрощаться с Ирой — поезд тронется до того, как он успеет вскочить на перрон. Похожие сцены встречаются в фильмах «Жена ушла» и «Милый…»: носящиеся по аэропорту Александр с сыном не могут различить жену в толпе, а схваченная милицией Анна — встретиться со слепо любимым ею мужчиной, что, воспользовавшись ею неопытностью, вовсе и не собирался продолжать с ней связь.
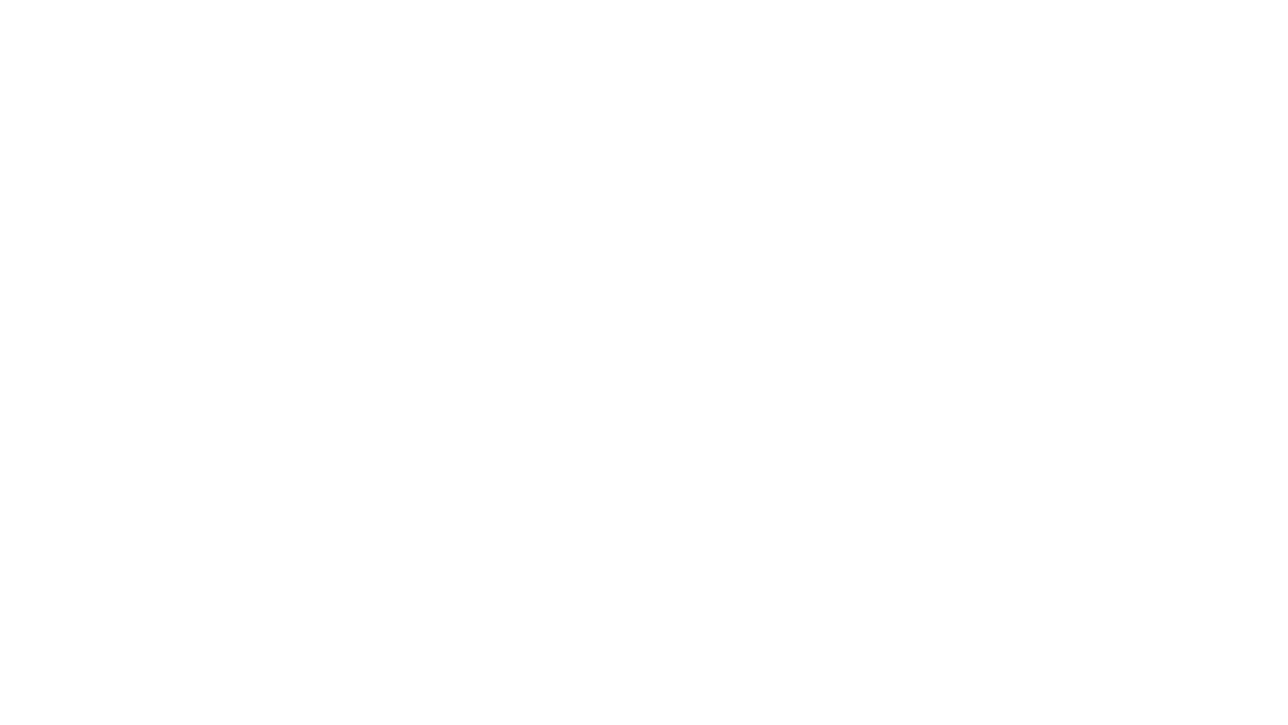
«Милый, дорогой, любимый единственный...» (1984)
Разобщенные и поглощенные потребительским порядком взрослые прячутся в воспоминаниях, пытаясь найти хотя бы одно основание для того, чтобы восстановить подлинных характер пережитых событий и подтвердить осмысленность своего существования. У детей в кинематографе Асановой такого убежища нет. Перед ними — стремительно меняющийся мир, в котором все меньше мудрых наставников и смыслообразующих ценностей. Возможно, не уйди Динара из жизни так рано, в ее творчестве закрепился бы еще один образ, найденный коллегами в рабочих материалах к оставшемуся незавершенным фильму «Незнакомка» (1985). Снятая в репортажном стиле всесоюзная лыжная гонка монтируется параллельно с мчащимся во всю прыть по заснеженной дороге автомобилем. За рулем машины — подросток, убежденный, что против хорошо устроившихся в системе «папочек и мамочек» у него есть свои преимущества в этом заезде.
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Danny Boyle: Interviews. University Press of Mississippi, 2011. P. 11.
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.
Лепроон П. Современные французские кинорежиссеры. М., 1960. С. 263.
Porton R. More Than "Visual Froufrou": The Politics of Passion in the Films of Max Ophuls. Source: Cinéaste, Vol. 35, No. 4 (FALL 2010). P. 8.
Svetov M. Max Ophuls noir’s stealthy modernist. Noir city sentinel. Vol. 2. № 3. 2007. P. 7.
Батлер Д. Заметки к перформативной теории собраний. М., 2018. С. 38.
Tognolotti C. The Representation of Money and the Female Figure in Max Ophuls’ Caught and Lola Montès [Электронный ресурс] URL: https://www.academia.edu/12180260/The_Representation_of_Money_and_the_Female_Figure_in_Max_Ophuls_Caught_and_Lola_Mont%C3%A8s
Svetov M. Max Ophuls noir’s stealthy modernist. Noir city sentinel. Vol. 2. № 3. 2007. P. 7.
Гусев А. Безделица какая-то и тряпка — «Лола Монтес» Макса Офюльса [Электронный ресурс] URL: https://seance.ru/articles/lola-montes/