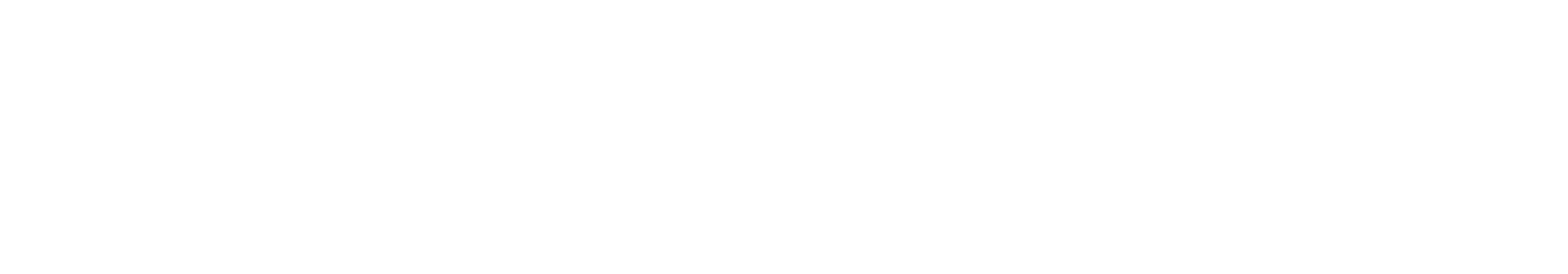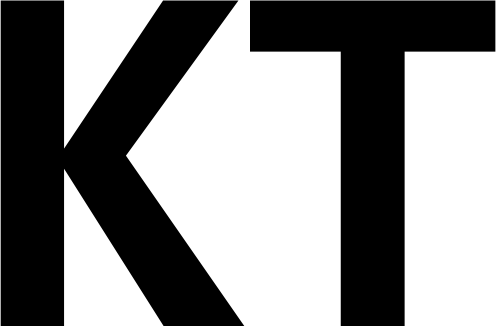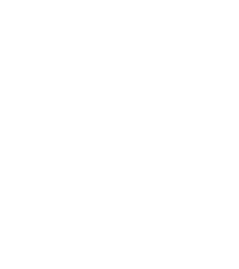АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 11 ЯНВАРЯ 2020
ШЕПОТЫ И КРИКИ: ИЛЛЮЗИИ БОЛЬНОЙ СОВЕСТИ
Расширение поля критического дискурса относительно авторского почерка Ингмара Бергмана и его работы «для утешения чувств» заложников идеала буржуазной системы
ШЕПОТЫ И КРИКИ: ИЛЛЮЗИИ БОЛЬНОЙ СОВЕСТИ
АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 11.01.2020
Расширение поля критического дискурса относительно авторского почерка Ингмара Бергмана и его работы «для утешения чувств» заложников идеала буржуазной системы
ШЕПОТЫ И КРИКИ: ИЛЛЮЗИИ БОЛЬНОЙ СОВЕСТИ
АЛЕКСАНДР МИГУРСКИЙ | 11.01.2020
Расширение поля критического дискурса относительно авторского почерка Ингмара Бергмана и его работы «для утешения чувств» заложников идеала буржуазной системы
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Режиссер: Ингмар Бергман
Страна: Швеция
Год: 1972
Еще при жизни Ингмара Бергмана киноведы пришли к консенсусу относительно его статуса в истории кино. «Классик», философ экрана, непревзойденный художник и самый знаменитый (после Стриндберга и Линдгрен) швед, внесший вклад в мировую культуру. Действительно, более чем за пятьдесят лет творчества (в том числе на театральном и литературном поприще), Бергман никогда не изменял себе, не поддавался искушению ставить «чисто бергмановские» фильмы, даже когда это сулило приличные деньги. Стараясь во всем быть «относительно искренним и бесстыдно личным» [1], он, человек грезы и сновидения, как сейсмограф, реагирующий на колебания времени, каждый раз переизобретал кино-форму, чтобы найти нужные слова для разговора о том, что тревожило его на протяжении всей жизни и в конкретный момент. Это стремление облечь внутреннюю работу души в пластические образы, чуждые, кроме перцептивной реальности, любому «реализму» обусловило его нерушимую связь с традициями немого кинематографа [2], а исследование вопросов веры/неверия, моральной холодности и экзистенциального отчуждения историческим узлом связало его с интеллектуальной традицией «короткого» века всеобщей модернизации.
И все-таки, как и любой культ, несмотря на внешнее почтение, выказываемое фигуре мастера «киношной» интеллигенцией, «бергманомания» зачастую ограничивает сферу понимания его творчества, защищая все «вечное» в нем от любого критического дискурса, касающегося его связи с политикой и экономикой страны и эпохи. В общем-то, подобной тактики придерживался и сам Бергман, зачастую боявшийся попасть в ловушку чьего-то «единственно верного политического мировоззрения» при общении с журналистами и киноведами, из-за чего бывал неискренним и, по его же словам, «праздновал труса» [3]. Он никогда не давал возможности критикам по-настоящему реконструировать свои произведения, хотя и стремился посодействовать этому. Чего стоит хотя бы отдельная полка в доме на Форе с книгами, посвященными собственной персоне! Но и в беседах, проводимых им «наедине с собой» (мемуарах, дневниках), трудно найти что-то содержательно важное, касающееся непосредственно фильмов. Пожалуй, ни один кинематографист не оставил после себя столько рефлексивного материала, как Бергман. Однако стоит нам приступить к хоть сколько-нибудь внимательному их изучению, придется с сожалением обнаружить абсолютное нежелание Бергмана обсуждать «философию» приема и нарратива. Только сны, воспоминания, жалобы и стоны измученного духа по поводу внешних обстоятельств.
Это тупик, дающий нам повод оглядеться вокруг. Попробовать концептуализировать повторяющиеся мыслительные мотивы мастера, заменив ими сложную теорию фильма, которую невозможно обнаружить внутри текстов Бергмана, и посмотреть глазами анатома буржуазии на оставленное им наследие иначе, оставив в стороне завораживающие иллюзии снов.
Страна: Швеция
Год: 1972
Еще при жизни Ингмара Бергмана киноведы пришли к консенсусу относительно его статуса в истории кино. «Классик», философ экрана, непревзойденный художник и самый знаменитый (после Стриндберга и Линдгрен) швед, внесший вклад в мировую культуру. Действительно, более чем за пятьдесят лет творчества (в том числе на театральном и литературном поприще), Бергман никогда не изменял себе, не поддавался искушению ставить «чисто бергмановские» фильмы, даже когда это сулило приличные деньги. Стараясь во всем быть «относительно искренним и бесстыдно личным» [1], он, человек грезы и сновидения, как сейсмограф, реагирующий на колебания времени, каждый раз переизобретал кино-форму, чтобы найти нужные слова для разговора о том, что тревожило его на протяжении всей жизни и в конкретный момент. Это стремление облечь внутреннюю работу души в пластические образы, чуждые, кроме перцептивной реальности, любому «реализму» обусловило его нерушимую связь с традициями немого кинематографа [2], а исследование вопросов веры/неверия, моральной холодности и экзистенциального отчуждения историческим узлом связало его с интеллектуальной традицией «короткого» века всеобщей модернизации.
И все-таки, как и любой культ, несмотря на внешнее почтение, выказываемое фигуре мастера «киношной» интеллигенцией, «бергманомания» зачастую ограничивает сферу понимания его творчества, защищая все «вечное» в нем от любого критического дискурса, касающегося его связи с политикой и экономикой страны и эпохи. В общем-то, подобной тактики придерживался и сам Бергман, зачастую боявшийся попасть в ловушку чьего-то «единственно верного политического мировоззрения» при общении с журналистами и киноведами, из-за чего бывал неискренним и, по его же словам, «праздновал труса» [3]. Он никогда не давал возможности критикам по-настоящему реконструировать свои произведения, хотя и стремился посодействовать этому. Чего стоит хотя бы отдельная полка в доме на Форе с книгами, посвященными собственной персоне! Но и в беседах, проводимых им «наедине с собой» (мемуарах, дневниках), трудно найти что-то содержательно важное, касающееся непосредственно фильмов. Пожалуй, ни один кинематографист не оставил после себя столько рефлексивного материала, как Бергман. Однако стоит нам приступить к хоть сколько-нибудь внимательному их изучению, придется с сожалением обнаружить абсолютное нежелание Бергмана обсуждать «философию» приема и нарратива. Только сны, воспоминания, жалобы и стоны измученного духа по поводу внешних обстоятельств.
Это тупик, дающий нам повод оглядеться вокруг. Попробовать концептуализировать повторяющиеся мыслительные мотивы мастера, заменив ими сложную теорию фильма, которую невозможно обнаружить внутри текстов Бергмана, и посмотреть глазами анатома буржуазии на оставленное им наследие иначе, оставив в стороне завораживающие иллюзии снов.
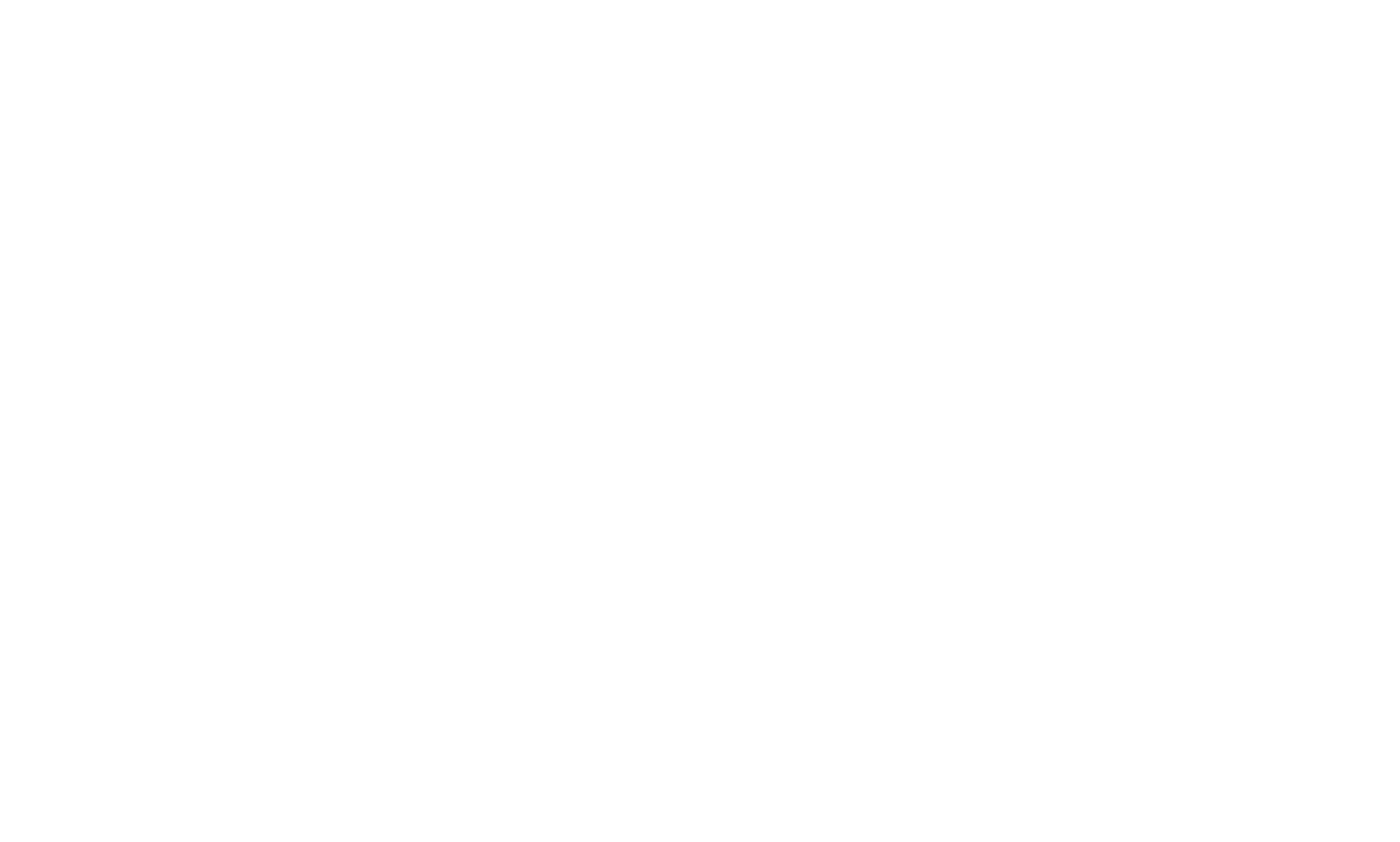
В МИРЕ БЕЗ БОГА
Концепция молчащего Бога, ключевая в протестантской мистике, прочно, на уровне тропа, закреплена в бергмановском кинематографе, поэтому обсуждать её здесь кажется нецелесообразным, если мы хотим подобраться к «Шепотам и крикам» с абсолютно иной системой координат. Скажем только, что божественное присутствие/отсутствие Бергман фиксирует с помощью игры света. Он может разливаться по пространству, чтобы затем угаснуть в периоды важного метафизического переживания («Сарабанда», «Шепоты и крики», «Лето с Моникой») или вовсе являть свое равнодушие сквозь сгущенное пасмурное небо («Осенняя соната») и непререкаемую тишину, в которой оказывается человек, окруженный чем-то неживым, механическим (часами, статуэтками, игрушками). Отсюда становится понятным такое трепетное отношение художника к волшебному фонарю, работающему именно по принципу прохождения света через стеклянные призмы. Свет порождает чистые грезы, с красотой которых мало что может сравниться. Особенно если они оказываются подчиненными простому механизму (главное детское открытие Бергмана) [4].
Достаточно бросить самый беглый взгляд на культуру Швеции второй половины прошлого века, как становится понятным, что обращение к теологической тематике, которое принято объяснять влиянием отца, протестантского пастора, оказывается недостаточным для интерпретации творчества режиссера, ведь немало светских художников вышло из религиозных семей. В данном случае, дело заключается в том, что построение государства всеобщего благоденствия, осуществленное социал-демократическим правительством благодаря давлению на буржуазные элиты, открыло дорогу к коренному переустройству общества – рациональной социальной инженерии, а вместе с ней – атеизму.
Достаточно бросить самый беглый взгляд на культуру Швеции второй половины прошлого века, как становится понятным, что обращение к теологической тематике, которое принято объяснять влиянием отца, протестантского пастора, оказывается недостаточным для интерпретации творчества режиссера, ведь немало светских художников вышло из религиозных семей. В данном случае, дело заключается в том, что построение государства всеобщего благоденствия, осуществленное социал-демократическим правительством благодаря давлению на буржуазные элиты, открыло дорогу к коренному переустройству общества – рациональной социальной инженерии, а вместе с ней – атеизму.
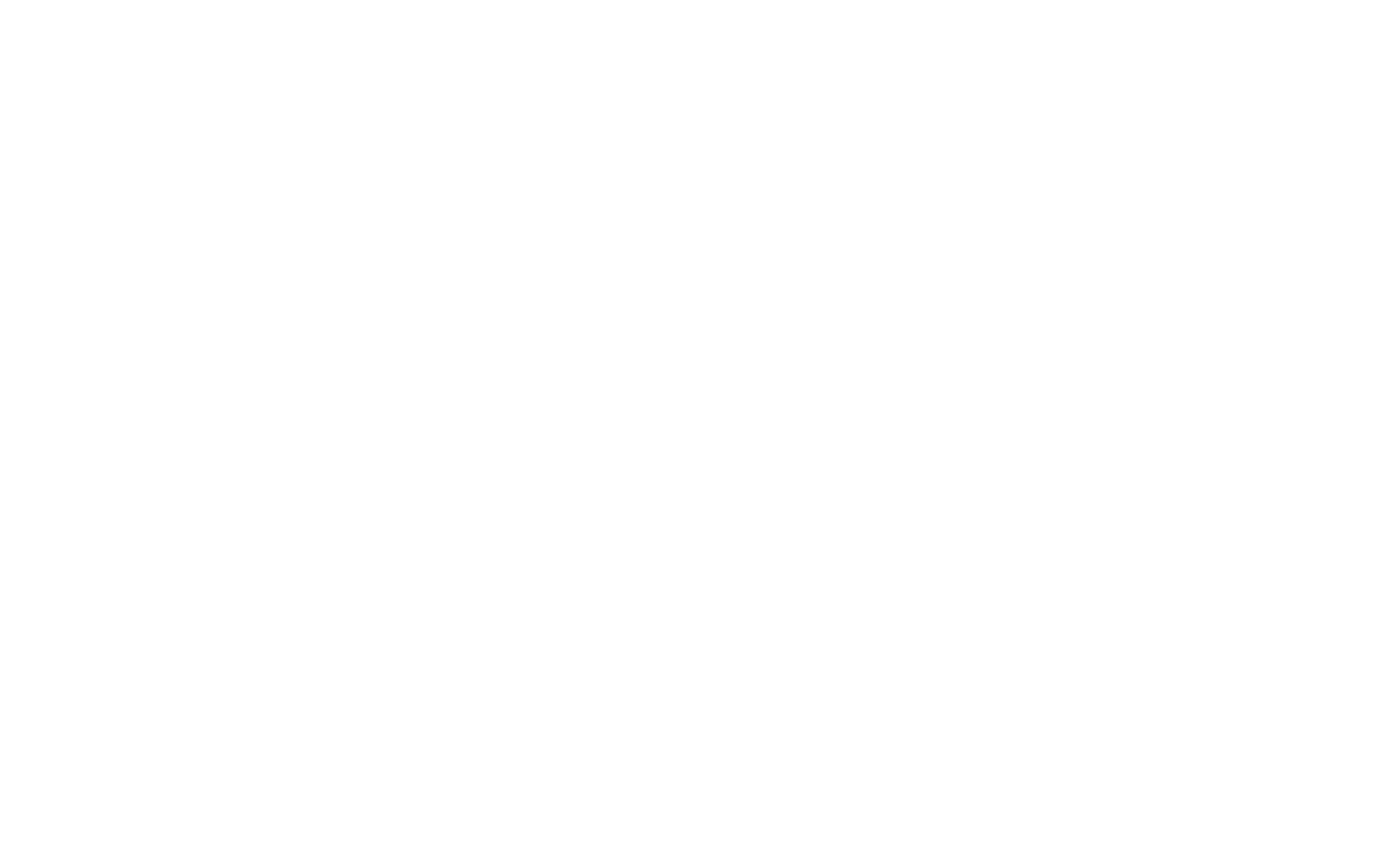
Коллективистские эксперименты, рост благосостояния и секуляризация знания не могли не вызвать реакции справа. Бергман в этой исторической ситуации есть голос буржуазного индивидуализма, тревоги, озабоченно обращающийся к ушедшей из-под ног религиозной почве, некогда давшей зеленый свет капиталистическому развитию и обеспечившей господство частного существования над общественным [5]. К сожалению, марксистская критика 1960-х в эпоху бурных перемен оказалась не в меру взыскательна по отношению к творчеству режиссера. По близорукой партийной привычке она заклеймила его бессознательным отражением мироощущения уходящей на задворки истории буржуазии [6]. Критический потенциал работ Бергмана в период социального оптимизма оказался не понят шведской публикой, что послужило лишним поводом объявить художника «неактуальным». Но буржуазный индивидуализм Бергмана [7], сосредоточенный на изучении существенных противоречий разлагающегося класса, внес весомый вклад в критику рациональности вообще, ограниченность которой прогрессивным силам придется признать много позже.
В его фильмах интеллектуальное измерение действительности, как абстрактная система, принадлежащая разуму, вступает в острое противоречие с чувственным (психологическим) опытом конкретного индивида. Рационализм подвергается испытаниям самой иррациональностью индивидуального опыта, не умещающегося в прокрустово ложе объяснительных концепций «материалистических» наук. Легендарный спор двух студентов в «Земляничной поляне» именно об этом. Отчуждение, порождаемое непоследовательной рациональностью капиталистического способа производства, в фильмах Бергмана находит проявление именно внутри самой буржуазии, не способной до конца понять свое экзистенциально ограниченное положение внутри этой системы. Отрешенность от большого мира обрекает буржуазию взывать к фантазмам памяти, которые позволяют мысли стать объектом взгляда камеры, как единственной силы, способной обеспечить лучшим из них индивидуальное спасение. Наблюдая за распадом буржуазной семьи «старых добрых лет», за попытками её адептов преодолеть отчуждение через нарушение социальных и моральных табу, Бергман ставит перед нами более широкий вопрос: возможна ли любовь в семье, основанной на экономической сделке? Как и положено великому художнику, он оставляет публику в тишине. Но ответов здесь и не требуется. Интересно только то, как он рассказывает об этом. Само устройство фильма может дать нам гораздо больше поводов для размышлений, чем заранее выписанный рецепт от «последнего из людей».
В его фильмах интеллектуальное измерение действительности, как абстрактная система, принадлежащая разуму, вступает в острое противоречие с чувственным (психологическим) опытом конкретного индивида. Рационализм подвергается испытаниям самой иррациональностью индивидуального опыта, не умещающегося в прокрустово ложе объяснительных концепций «материалистических» наук. Легендарный спор двух студентов в «Земляничной поляне» именно об этом. Отчуждение, порождаемое непоследовательной рациональностью капиталистического способа производства, в фильмах Бергмана находит проявление именно внутри самой буржуазии, не способной до конца понять свое экзистенциально ограниченное положение внутри этой системы. Отрешенность от большого мира обрекает буржуазию взывать к фантазмам памяти, которые позволяют мысли стать объектом взгляда камеры, как единственной силы, способной обеспечить лучшим из них индивидуальное спасение. Наблюдая за распадом буржуазной семьи «старых добрых лет», за попытками её адептов преодолеть отчуждение через нарушение социальных и моральных табу, Бергман ставит перед нами более широкий вопрос: возможна ли любовь в семье, основанной на экономической сделке? Как и положено великому художнику, он оставляет публику в тишине. Но ответов здесь и не требуется. Интересно только то, как он рассказывает об этом. Само устройство фильма может дать нам гораздо больше поводов для размышлений, чем заранее выписанный рецепт от «последнего из людей».
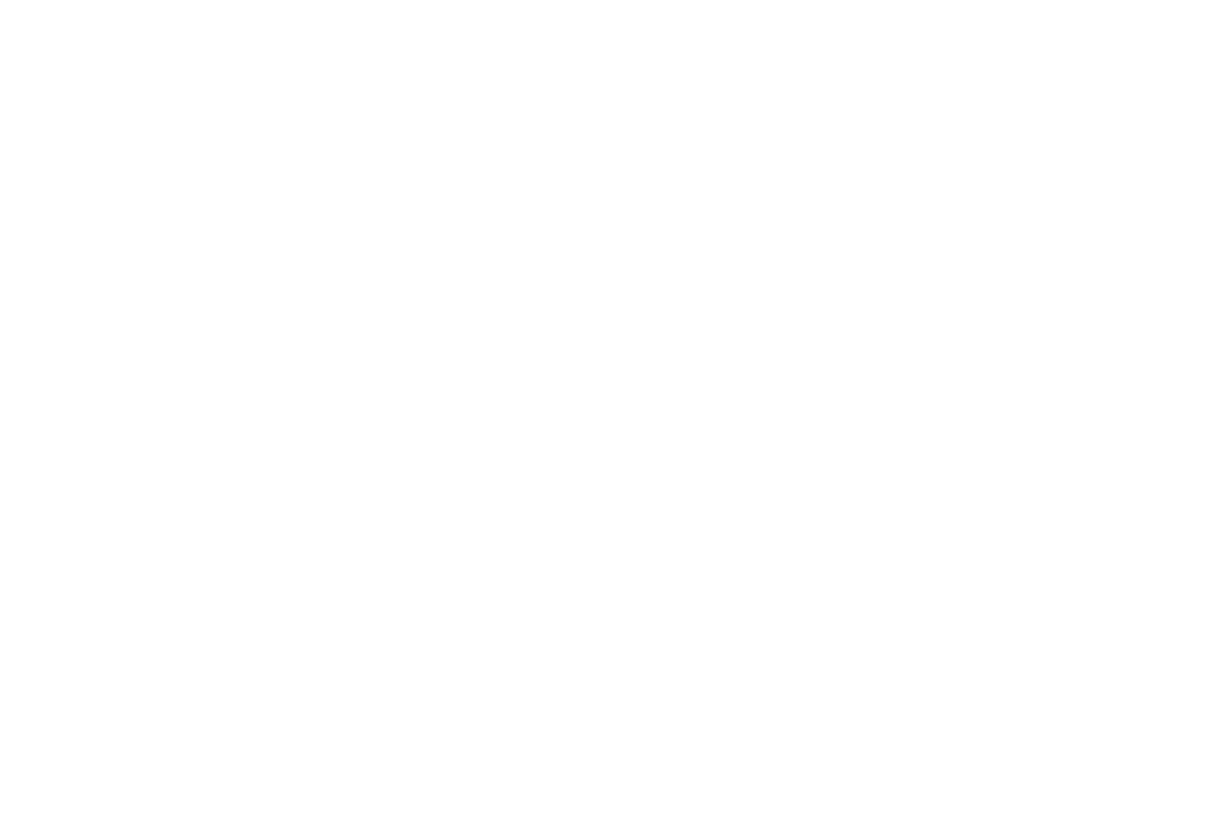
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭССЕНЦИАЛИЗМ
«Шепоты и крики» – фильм, в котором Бергману удалось установить симбиотическую связь условной реальности конца XIX века с индивидуальными представлениями действующих лиц, не лишив при этом, в сущности, метафизическую историю борьбы с призраками политэкономического измерения. В центре сюжета – три женщины: сестры Мария и Корин, их служанка Анна, не так давно потерявшая маленькую дочь. Они дежурят у постели хозяйки поместья, старшей сестры двух женщин Агнес, умирающей от тяжелой болезни (в объяснительной записке, прикрепленной к сценарию фильма, Бергман говорит о раке матки [8]). Мы видим их в окружении красных стен (бергмановское наваждение тех лет; красный ассоциировался у него с нутром души), среди оглушительно тикающих часов, фарфоровых статуэток и фаянсовых кукол. Дескриптивная модель совместного быта героинь запечатлена в виде игрушечного домика, на который глазами куклы смотрит Мария. В иерархичном устройстве здания недвусмысленно прослеживается угнетенное положение Анны. И та роль, которую она сыграет в повествовании, будет далека от «серых компромиссов» господствующей в те годы идеологии.
Работа Бергмана и его оператора Свена Нюквиста структурирует не только отношения господства и подчинения, но и вуайрестический интерес к болезненной телесности. Этой иррациональной физиологичностью пронизано самосознание режиссера, дошедшего даже до утверждения, что фильм рождается «во внутренностях души, в моем сердце, мозгу, нервах, половых органах и, в последнюю очередь, в кишках» [9]. В данном случае мы становимся свидетелями мучений Агнес, её приступов, заставляющих больную женщину стонать и кричать, срывая голос. Успокоить её способна только Анна, днем и ночью чутко отзывающаяся на каждый призыв хозяйки. Соматографически её тело функционирует в пространстве фильма, как тело великой матери, утраченной Агнес, а доля эротизма позволяет думать и о более глубокой эротической связи между этими женщинами (стремятся к которой в фильме и другие сестры). Дожидаясь смерти, Агнес рисует и делает записи в дневнике. Её красивый почерк будет несколько раз пойман объективом камеры, находящей в нем своего рода портал, погружающий в грезу летних дней, беззаботно проведенных сестрами в просторном приусадебном парке под сенью воздушных зонтиков.
Но страшнее криков живых только шепот мертвых. Мария и Карин блуждают по длинным коридорам и закрытым комнатам усадьбы, практически не имея шансов пересечься. Их отстраненность друг от друга нарастает по мере того, как каждая из них оказывается в ловушке «удачного брака» [10]. Мария замужем за дипломатом, в чье отсутствие она, обладающая ярко выраженной сексуальностью (её пышные платья намеренно подчеркивают статную фигуру актрисы Лив Ульман), крутит романы на стороне. В конце концов, это доведет верного супруга до самоубийства. Появляющийся на несколько мгновений доктор, не способный помочь ни дочери Анны, ни умирающей Агнес, равнодушно отвечая на ласки Марии, словно диагностирует общую болезнь этого семейства: лживость, притворство и равнодушие. С помощью Эроса Мария попытается наладить хоть какую-то связь с Карин, но в условиях болезни он окажется бессильным, обдавая мертвым дыханием губы ближнего (гомоэротический подтекст также таит в себе вуайрестический потенциал).
Не сильно от нее отличается и «прилежная жена» Карин, ненавидящая своего престарелого мужа-коммерсанта за властность и презрение к собственной личности. Свою подавленную свободу она выражает в господском отношении к безропотной Анне и в скользкой зависти к сексуально независимой Марии. Это, по выражению Бергмана, «огромный капитал чувств», лежащий без движения, невостребованный [11]. Единственный акт протеста, на который она идет, чтобы сказать «нет» патриархальному устройству собственной семьи («всеобщей лжи»), это изувечить себя стеклом от разбитого бокала. Кровью, залившей ноги и белые простыни, Карин измажет рот, словно надеясь вызвать отвращение у не отрывающего от нее глаз мужа.
Работа Бергмана и его оператора Свена Нюквиста структурирует не только отношения господства и подчинения, но и вуайрестический интерес к болезненной телесности. Этой иррациональной физиологичностью пронизано самосознание режиссера, дошедшего даже до утверждения, что фильм рождается «во внутренностях души, в моем сердце, мозгу, нервах, половых органах и, в последнюю очередь, в кишках» [9]. В данном случае мы становимся свидетелями мучений Агнес, её приступов, заставляющих больную женщину стонать и кричать, срывая голос. Успокоить её способна только Анна, днем и ночью чутко отзывающаяся на каждый призыв хозяйки. Соматографически её тело функционирует в пространстве фильма, как тело великой матери, утраченной Агнес, а доля эротизма позволяет думать и о более глубокой эротической связи между этими женщинами (стремятся к которой в фильме и другие сестры). Дожидаясь смерти, Агнес рисует и делает записи в дневнике. Её красивый почерк будет несколько раз пойман объективом камеры, находящей в нем своего рода портал, погружающий в грезу летних дней, беззаботно проведенных сестрами в просторном приусадебном парке под сенью воздушных зонтиков.
Но страшнее криков живых только шепот мертвых. Мария и Карин блуждают по длинным коридорам и закрытым комнатам усадьбы, практически не имея шансов пересечься. Их отстраненность друг от друга нарастает по мере того, как каждая из них оказывается в ловушке «удачного брака» [10]. Мария замужем за дипломатом, в чье отсутствие она, обладающая ярко выраженной сексуальностью (её пышные платья намеренно подчеркивают статную фигуру актрисы Лив Ульман), крутит романы на стороне. В конце концов, это доведет верного супруга до самоубийства. Появляющийся на несколько мгновений доктор, не способный помочь ни дочери Анны, ни умирающей Агнес, равнодушно отвечая на ласки Марии, словно диагностирует общую болезнь этого семейства: лживость, притворство и равнодушие. С помощью Эроса Мария попытается наладить хоть какую-то связь с Карин, но в условиях болезни он окажется бессильным, обдавая мертвым дыханием губы ближнего (гомоэротический подтекст также таит в себе вуайрестический потенциал).
Не сильно от нее отличается и «прилежная жена» Карин, ненавидящая своего престарелого мужа-коммерсанта за властность и презрение к собственной личности. Свою подавленную свободу она выражает в господском отношении к безропотной Анне и в скользкой зависти к сексуально независимой Марии. Это, по выражению Бергмана, «огромный капитал чувств», лежащий без движения, невостребованный [11]. Единственный акт протеста, на который она идет, чтобы сказать «нет» патриархальному устройству собственной семьи («всеобщей лжи»), это изувечить себя стеклом от разбитого бокала. Кровью, залившей ноги и белые простыни, Карин измажет рот, словно надеясь вызвать отвращение у не отрывающего от нее глаз мужа.
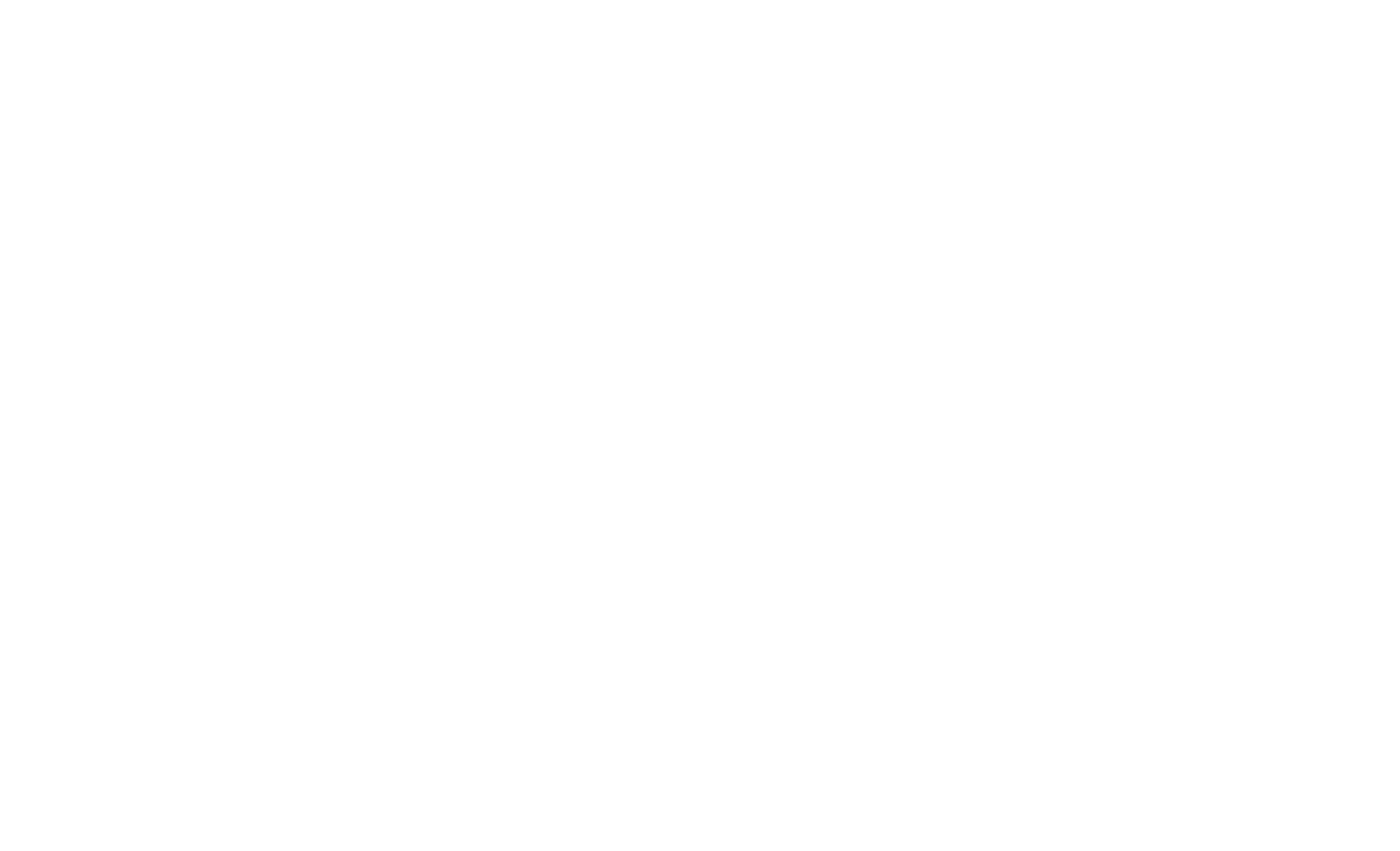
Обе женщины, страдая от напряжения, образовавшегося между ними в результате обретения себя в лоне буржуазного брака, не стремятся преодолеть его основополагающих структур. Карин очень легко занимает место супруга, расчетливым взглядом пробегая домовые книжки, с целью выгодней продать поместье после смерти Агнес. Мария тоже рассчитывает на долю, хотя вслух об этом не говорит. Смягчить сердце сестры – вот более безопасный путь к доходу от наследства. В конце фильма, прощаясь, две сестры вновь почувствуют трещину в отношениях: каждая из них лишь забрала, что хотела, и страсти, которым они поддались в поисках чего-то общего, утратят какое-либо значение. Рисуя своих героинь, Бергман неосознанно для себя попадает в ловушку патриархального восприятия отношений между женщинами, изображая их коммуникацию и сопротивление исключительно в биологическом или, чаще всего, репродуктивном поле [12].
Неспособность сестер к истинному сочувствию ярко отражена в сцене мольбы мертвой Агнес, когда она просит подойти к ней, плача и задыхаясь. Ни одна из них не готова соединиться с мертвой, поскольку они являются «слишком живыми» для этого. И только христианская самоотверженность рабски преданной хозяйке Анны успокаивает мертвую. Знаменитый кадр с полуобнаженной служанкой и угасшей Агнес подражает иконографической традиции изображения Богородицы. Последний раз комнату наполняет свет. Разграбившие имущество родственники уезжают, скупо вкладывая в руку Анны банкноту. Единственное, чего требует богобоязненная женщина, так это оставить ей дневник госпожи. Верность ушедшей из жизни хозяйке помогает восстановить онирическую идиллию, к которой так стремилась умершая, никогда не понимавшая, как все устроено вокруг, но инстинктивно чувствовавшая за фигурой матери силу, обеспечивающую душевный баланс в этой склоченной среде. Выздоровление системы происходит благодаря бедняку, отдающему свою сущность в услужение людям, способным выходить за все допустимые пределы, благодаря благосклонности к ним этой самой системы.
Неспособность сестер к истинному сочувствию ярко отражена в сцене мольбы мертвой Агнес, когда она просит подойти к ней, плача и задыхаясь. Ни одна из них не готова соединиться с мертвой, поскольку они являются «слишком живыми» для этого. И только христианская самоотверженность рабски преданной хозяйке Анны успокаивает мертвую. Знаменитый кадр с полуобнаженной служанкой и угасшей Агнес подражает иконографической традиции изображения Богородицы. Последний раз комнату наполняет свет. Разграбившие имущество родственники уезжают, скупо вкладывая в руку Анны банкноту. Единственное, чего требует богобоязненная женщина, так это оставить ей дневник госпожи. Верность ушедшей из жизни хозяйке помогает восстановить онирическую идиллию, к которой так стремилась умершая, никогда не понимавшая, как все устроено вокруг, но инстинктивно чувствовавшая за фигурой матери силу, обеспечивающую душевный баланс в этой склоченной среде. Выздоровление системы происходит благодаря бедняку, отдающему свою сущность в услужение людям, способным выходить за все допустимые пределы, благодаря благосклонности к ним этой самой системы.
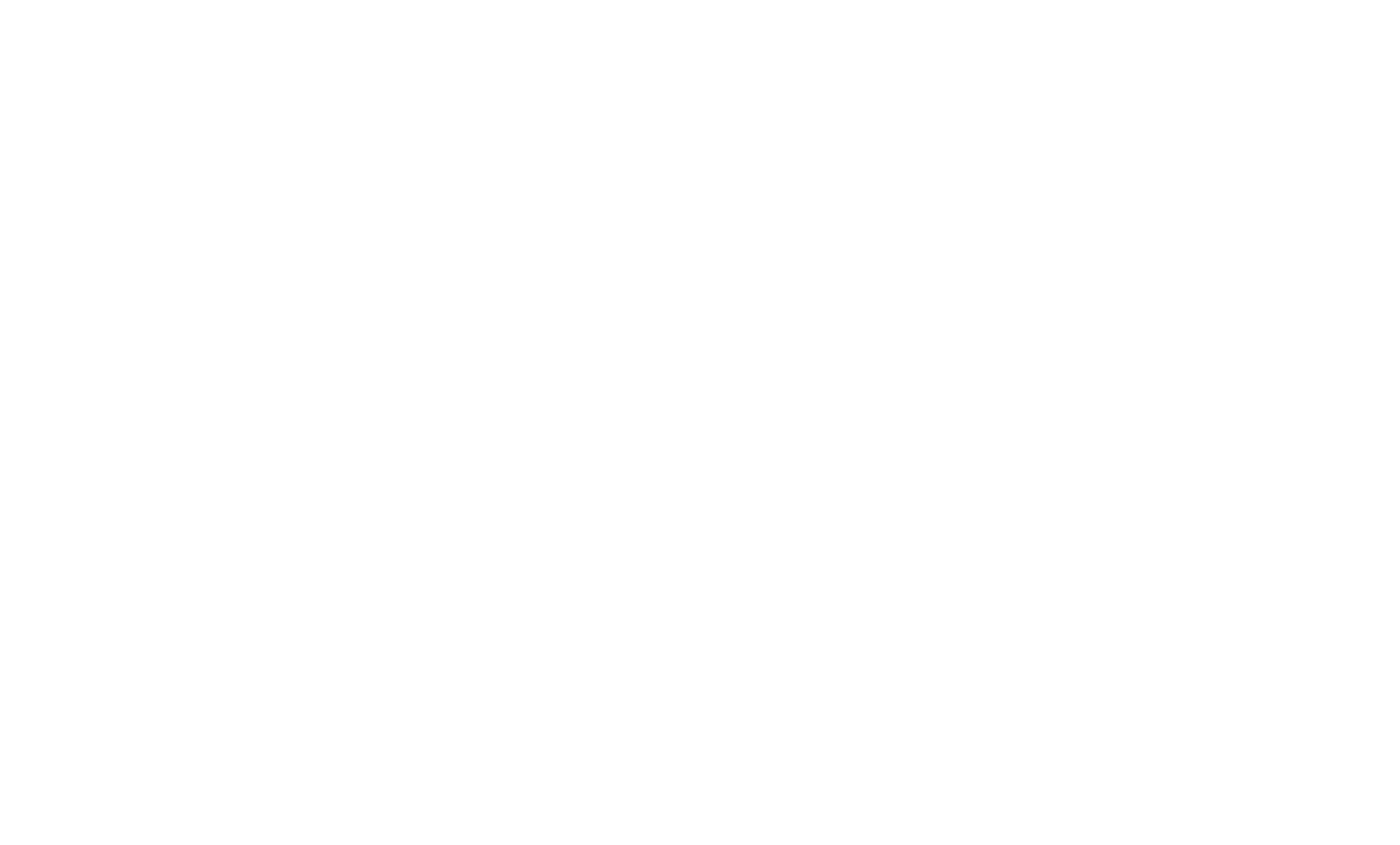
После просмотра «Шепотов и криков» особенно странным кажется утверждение Бергмана о том, что это «фильм для утешения» [13]. Да, нельзя не согласиться с тем, что в семье, поглощенной экономической необходимостью, противоречивость чувств, возникающая от несоответствия её объективного положения навязываемому господствующим классом идеалу, значительно усложняет психологическое самосознание индивида. Метафизика индивидуального спасения в таких условиях оказывается порой необходима, чтобы хоть сколько-нибудь примириться со своей ролью в общественном спектакле. Но в данном случае речь идет о разрешении конфликта внутри господствующего класса! – а потому без лишних объяснений становится понятно, кому же все-таки адресована молитва пастора у тела Агнес.
Редактор: Лена Черезова
Редактор: Лена Черезова
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.
Бергман И. Картины. М., 1997. С. 46.
Extence G. Cinematic Thought: The Representation of Subjective Processes in the Films of Bergman, Resnais and Kubric. Sheffield, 2008. P. 62-63.
Бергман И. Картины. М., 1997. С. 9-10.
Ингмар Б. Латерна Магика. М., 1989. С. 19-20.
Бондарев А. П. Политические взгляды Бенжамена Констана // Французский ежегодник 1977. М., 1979. С. 218-219.
Hedling E. The welfare state depicted: post-utopian landscapes in Ingmar Bergman's films // Ingmar Bergman Revisited. Performance, Cinema, and the Arts. New York, 2008. P. 180-181.
И нет никакого противоречия в том, что Бергман, по крайней мере, в публичном письме, назвал себя сторонником «идеологии серых компромиссов» социал-демократии. Бергман умел играть на публику и, оказавшись в опале, вынужден был искать способы вернуть свое положение, обвинив разросшийся бюрократический аппарат в знаменитом налоговом скандале.
Бергман И. Предуведомление к сценарию «Шепоты и крик» // Ингмар Бергман. Приношение к 70-летию. М., 1991. С. 5-6.
Бергман И. Картины. М., 1997. С. 10.
Рахманинова М. Д. Семья как предмет рефлексии о капитализме в классическом кинематографе XX века // Кино и капитал. М., С-Пб., 2019. С. 176.
Бергман И. Предуведомление к сценарию «Шепоты и крик» // Ингмар Бергман. Приношение к 70-летию. М., 1991. С. 6.
Creswell M. Karimova Z. Bergman's Women: The Representation of Patriarchy and Class in Persona (1967) and Cries and Whispers (1972) [Электронный ресурс] URL: https://brightlightsfilm.com/bergmans-women-the-representation-of-patriarchy-and-class-in-persona-1967-and-cries-and-whispers-1972/#.XhhbEsgzbIV
Бергман И. Картины. М., 1997. С. 31.