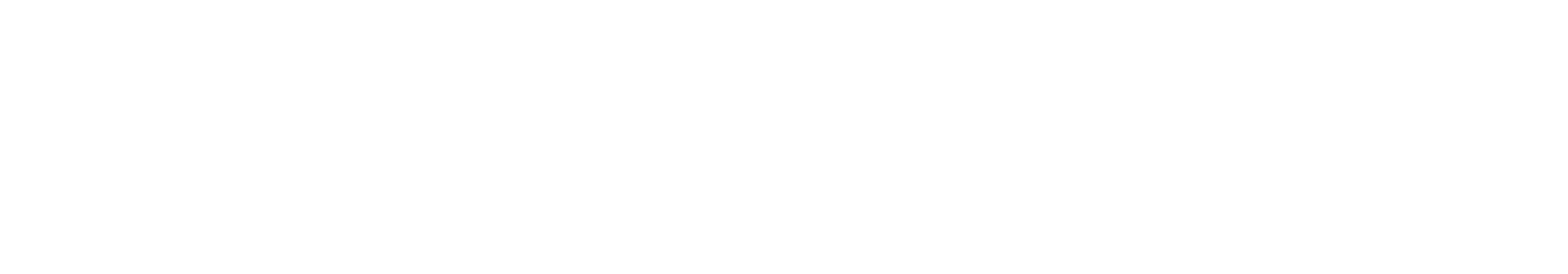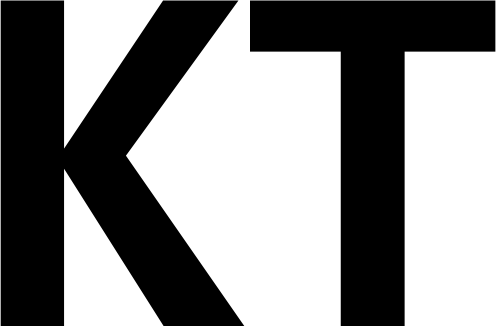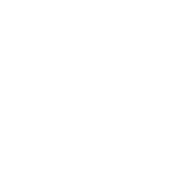СЕРГЕЙ ЧАЦКИЙ | 20 ЯНВАРЯ 2023
БАРДО: СИНДРОМ САМОЗВАНЦА
Борьба с эго, потворство ему и сюрреалистичная мемуаристика
БАРДО: СИНДРОМ САМОЗВАНЦА
СЕРГЕЙ ЧАЦКИЙ | 20.01.2023
Борьба с эго, потворство ему и сюрреалистичная мемуаристика
БАРДО: СИНДРОМ САМОЗВАНЦА
СЕРГЕЙ ЧАЦКИЙ | 20.01.2023
Борьба с эго, потворство ему и сюрреалистичная мемуаристика
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту
Страна: Мексика
Год: 2022
Одновременно самый забавный и самый грустный момент нового фильма Иньярриту — эпизод, в котором главный герой, успешный журналист Сильверио Гама, популярный не только в родной Мексике, но и за ее пределами, болтает с давним другом и коллегой, с которым вместе работал на телевидении. Последний нынче ведет рейтинговое late night show, а протагонист в исполнении Даниэля Хименеса Качо пожинает лавры после мировой премьеры своей документальной ленты, которую и «доком» толком-то не назовешь. Она представляет собой серию интервью с известными, зачастую уже мертвыми личностями, такими как, например, конкистадор Эрнан Кортес. Что это за антирепортаж? Звучит как тотальный useless, как какая-то претенциозная муть, не правда ли? Товарищ телеведущий думает точно так же, а потому начинает поливать грязью проект друга, называя его детище «бессмысленным онейризмом», «беспорядочным месивом бессмысленных сцен» и уличая Гаму в том, что его «долбанное эго видно за версту».
Почему же это забавно? Потому что гневная критика в адрес Сильверио — это прямая речь автора «Бардо». Акт самоиронии и самодурства, насмехательство Иньярриту над Иньярриту; прием не новый, но безотказный, ведь всякий зритель любит, когда «Титаны Высокого Возрождения» от мира кино устами своих же персонажей спускают себя с небес на землю. Ну, а почему это грустно? Потому что сцена эта лишний раз напоминает нам о том, что слова, заявленные в подзаголовке ленты — «Лживая хроника пригоршни истин» — не только название той самой псевдодокументалки, существующей исключительно внутри универсума «Бардо», но и сам «Бардо», каким он без обиняков предстает в глазах его создателя.
Страна: Мексика
Год: 2022
Одновременно самый забавный и самый грустный момент нового фильма Иньярриту — эпизод, в котором главный герой, успешный журналист Сильверио Гама, популярный не только в родной Мексике, но и за ее пределами, болтает с давним другом и коллегой, с которым вместе работал на телевидении. Последний нынче ведет рейтинговое late night show, а протагонист в исполнении Даниэля Хименеса Качо пожинает лавры после мировой премьеры своей документальной ленты, которую и «доком» толком-то не назовешь. Она представляет собой серию интервью с известными, зачастую уже мертвыми личностями, такими как, например, конкистадор Эрнан Кортес. Что это за антирепортаж? Звучит как тотальный useless, как какая-то претенциозная муть, не правда ли? Товарищ телеведущий думает точно так же, а потому начинает поливать грязью проект друга, называя его детище «бессмысленным онейризмом», «беспорядочным месивом бессмысленных сцен» и уличая Гаму в том, что его «долбанное эго видно за версту».
Почему же это забавно? Потому что гневная критика в адрес Сильверио — это прямая речь автора «Бардо». Акт самоиронии и самодурства, насмехательство Иньярриту над Иньярриту; прием не новый, но безотказный, ведь всякий зритель любит, когда «Титаны Высокого Возрождения» от мира кино устами своих же персонажей спускают себя с небес на землю. Ну, а почему это грустно? Потому что сцена эта лишний раз напоминает нам о том, что слова, заявленные в подзаголовке ленты — «Лживая хроника пригоршни истин» — не только название той самой псевдодокументалки, существующей исключительно внутри универсума «Бардо», но и сам «Бардо», каким он без обиняков предстает в глазах его создателя.
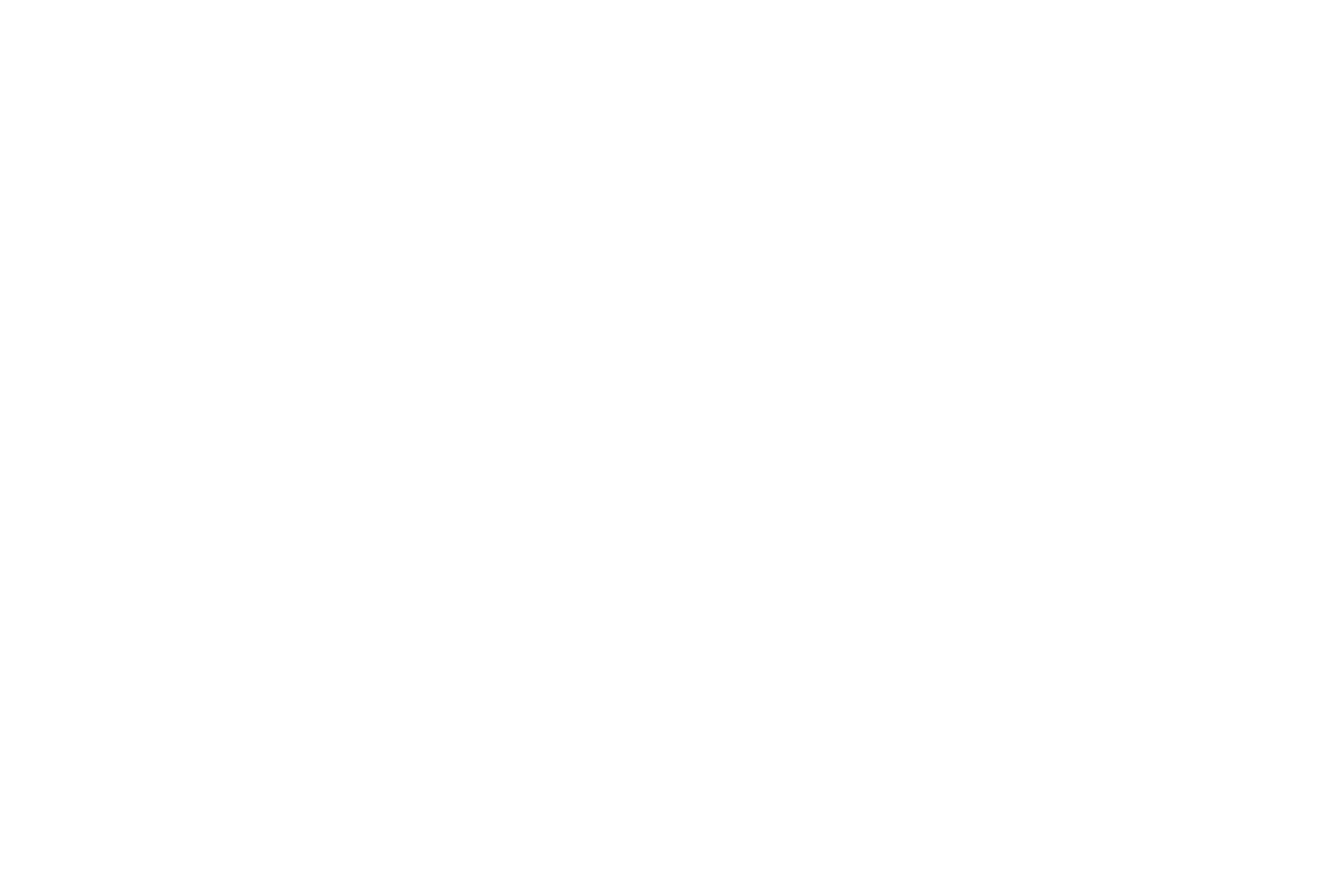
Согласитесь, в последние пару лет стало появляться больше фильмов, завязанных на ностальгии и саморефлексии, ненароком (а на деле — нароком) еще сильнее возводящих личность того или иного режиссера в культ. Спилберг вспоминает детство в «Фабельманах», беззаботными 70-ми упивается Пол Томас Андерсон в «Лакричной пицце», оду футболу и пубертату воспевает Паоло Соррентино в «Руке Бога», а «Рома» Альфонсо Куарона позволяет постановщику вновь ощутить тепло родительского дома. Это было всегда, пока не кончилось: жизнь коротка, жизнь имеет свой конец, а приговор Смерти нельзя обжаловать. От физического вычеркивания из уравнения существования не спасет хороший юрист или взятка. И чем старше, точнее, старее становятся постановщики с мировыми именами, тем больше они задумываются о том, что их magnum opus все еще не сверстан, и с этим надо что-то делать.
Перед Иньярриту маячит седьмой десяток. Торопиться вроде некуда, но лучше на всякий случай подстраховаться.
Алехандро совершает исход на родину в прямом и в переносном смыслах: «Бардо» снимался на его отчизне, в Мексике, где режиссер не бывал почти 20 лет, и там же разворачивается действие фильма. Правда, не в самой Мексике, а на просторах ее ментального слепка, который Иньярриту делит на пару с главным героем — мексиканским журналистом Сильверио Гамой, который, набрав весомое портфолио, снимая на камеру экзотическую нищету, умотал в Штаты. Все в голове — Иньярриту проектирует свой собственный «Восемь с половиной» и, как оно и было в картине Феллини, фильтрует крупицы воспоминаний, вставляет муки творца в огранку сюрреализма на пару с мемуаристикой и пускается топтать тротуары бессознательного.
О своей сновидческой природе «Бардо» заявляет с самых первых секунд — зритель наблюдает полет Сильверио над безлюдной мексиканской пустыней, снятый с перспективы от первого лица. Герой (он и оператор, и аватар зрительского присутствия), не сводя глаз с собственной тени, делает пару неспешных шагов, разгоняется, разгоняется сильнее, наконец бежит и взмывает в небеса. С каждым новым прыжком камера отдаляется все дальше и дальше от земли. Всем нам знакомо чувство отрешенного парения, которое, как правило, является не только самой захватывающей частью любого сна, но и знаменует резкое пробуждение в тот миг, когда наше эфирное тело касается несуществующей почвы. Сильверио отнюдь после приземления не просыпается. Для него сон — это реальность, а реальность — это сон. Пространство, где можно безопасно для себя самого и для окружающих провести ревизию смыслов и инвентаризацию нажитого, но не имущества, а опыта. Параллельно с вояжем по Мексике, которая встречает нас в стенах Чапультепекского дворца, продолжает знакомство за кухонным столом, в постели влюбленной пары, на шумной вечеринке, позже и вовсе выдворяет в аэропорт, предварительно заставив прогуляться по безлюдным улицам большого города, ставшего огромной декорацией для съемок фильма внутри фильма — «Лживой хроники пригоршни истин» внутри «Бардо». Не без оголтелого символизма в виде огромной статуи младенца, олицетворяющей мертворожденного ребенка главного героя, или, скажем, каркаса апартаментов протагониста, затерянных в пустоши и поглощенных песком.
Перед Иньярриту маячит седьмой десяток. Торопиться вроде некуда, но лучше на всякий случай подстраховаться.
Алехандро совершает исход на родину в прямом и в переносном смыслах: «Бардо» снимался на его отчизне, в Мексике, где режиссер не бывал почти 20 лет, и там же разворачивается действие фильма. Правда, не в самой Мексике, а на просторах ее ментального слепка, который Иньярриту делит на пару с главным героем — мексиканским журналистом Сильверио Гамой, который, набрав весомое портфолио, снимая на камеру экзотическую нищету, умотал в Штаты. Все в голове — Иньярриту проектирует свой собственный «Восемь с половиной» и, как оно и было в картине Феллини, фильтрует крупицы воспоминаний, вставляет муки творца в огранку сюрреализма на пару с мемуаристикой и пускается топтать тротуары бессознательного.
О своей сновидческой природе «Бардо» заявляет с самых первых секунд — зритель наблюдает полет Сильверио над безлюдной мексиканской пустыней, снятый с перспективы от первого лица. Герой (он и оператор, и аватар зрительского присутствия), не сводя глаз с собственной тени, делает пару неспешных шагов, разгоняется, разгоняется сильнее, наконец бежит и взмывает в небеса. С каждым новым прыжком камера отдаляется все дальше и дальше от земли. Всем нам знакомо чувство отрешенного парения, которое, как правило, является не только самой захватывающей частью любого сна, но и знаменует резкое пробуждение в тот миг, когда наше эфирное тело касается несуществующей почвы. Сильверио отнюдь после приземления не просыпается. Для него сон — это реальность, а реальность — это сон. Пространство, где можно безопасно для себя самого и для окружающих провести ревизию смыслов и инвентаризацию нажитого, но не имущества, а опыта. Параллельно с вояжем по Мексике, которая встречает нас в стенах Чапультепекского дворца, продолжает знакомство за кухонным столом, в постели влюбленной пары, на шумной вечеринке, позже и вовсе выдворяет в аэропорт, предварительно заставив прогуляться по безлюдным улицам большого города, ставшего огромной декорацией для съемок фильма внутри фильма — «Лживой хроники пригоршни истин» внутри «Бардо». Не без оголтелого символизма в виде огромной статуи младенца, олицетворяющей мертворожденного ребенка главного героя, или, скажем, каркаса апартаментов протагониста, затерянных в пустоши и поглощенных песком.
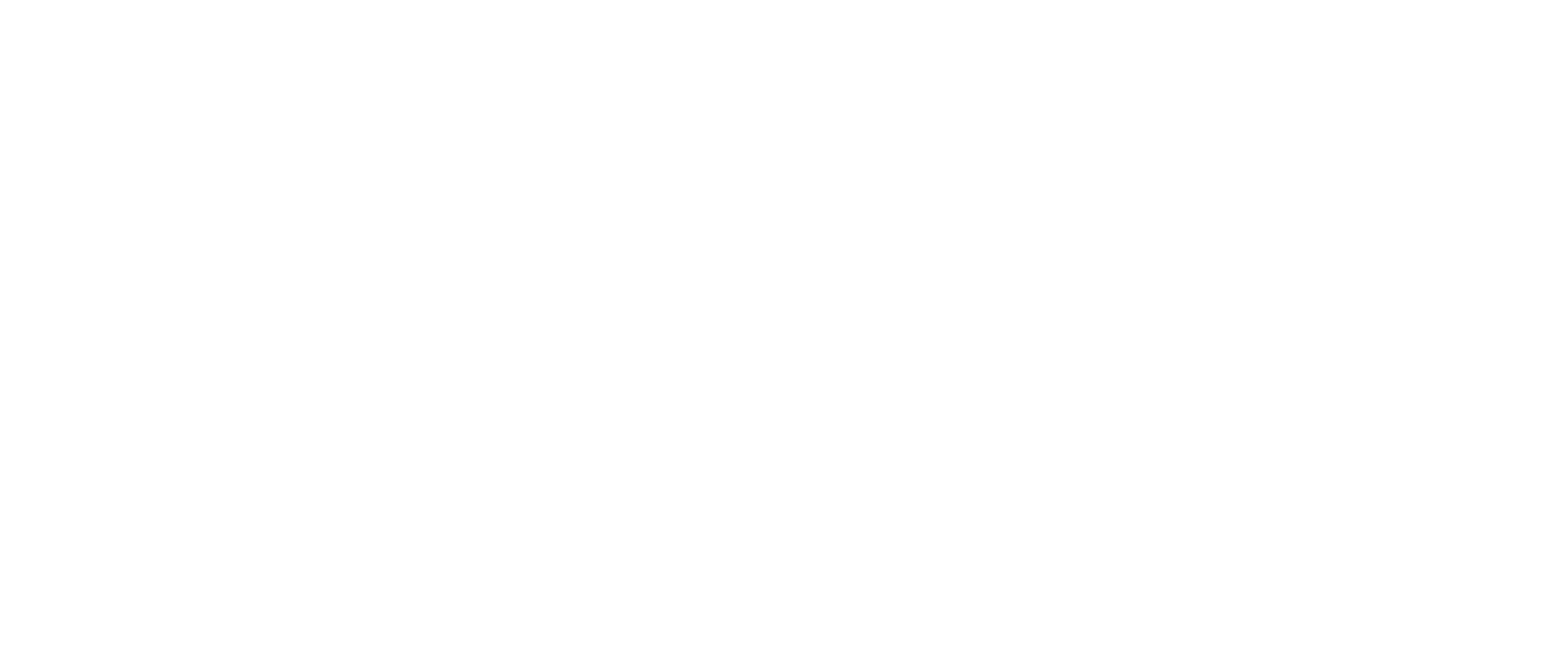
И повествовательная, и монтажная структуры «Бардо» амбивалентны. Феллиниевсикй Гвидо Ансельми коротал дни творческого кризиса где угодно, кроме съемочной площадки своего нового фильма. В том числе, и в особенности, в царстве грез. Сильверио несется по отсутствующей хронологии от миража к миражу, игнорируя драматургический уклад и заставля искусство «склейки» кадров работать на установку, изложенную в слогане «Бардо»: experience a state of mind. Его вселенной правят визуальные рифмы и бесшовные переходы между эпизодами, которые с головой выдают автора снятых будто бы одним кадром «Бердмэна» и «Выжившего». Правда, камерой орудует не Эммануэль Любецки, снимавший для Малика и Куарона, а Дариус Хонджи, замеченный в сотрудничестве с Рефном и братьями Сэфди. Однако ему удается, подхватывая то, как Иньярриту подаражет Феллини, подражать своему коллеге с киноаппаратом на плече, имитируя непрерывный и неумолчный полет фантазии, прореженный биографическим элементом.
Разве кто-то сомневался в том, что на самом деле Даниэля Качо наняли играть не Сильверио Гаму, а Алехандро Иньярриту? Режиссер, как и его экранный альтер эго, покинул страну, где родился, ради творчества и материальных благ, нахватал престижных премий за бугром, отрастил бороду и длинные патлы, забил гардеробный шкаф сотней пиджаков… И так же испытывал горечь утраты, и так же дурачился с домашними, и так же путался в мыслях, когда обстоятельства вынуждали не только наигранно улыбаться перед фотографами, но и замечать, что если раньше он на английском только говорил, то теперь на нем и еще думает (хоть в фильме общаются в основном на испанском, Иньярриту ловко обыгрывает редкие, но меткие проявления бесповоротной лингвистической ассимиляции). В целом и Сильверио, и Алехандро много о чем думают и много чего анализируют — не на потеху зрителю, разумеется. Как раз зритель на этом празднике кажется незваным гостем, который без стука вломился в кабинет, где постановщик вместе со своим психотерапевтом прорабатывает ментальные проблемы посредством игры — игры в кинорежиссера, снимающего фильм о самом себе и своих косяках перед родней, совестью, богом и даже перед аксолотлями сына, которых обрек на смерть от удушья. Милейшие подводные твари — это тоже, кстати, рифма, коих в сценарии немало. А еще важный закольцовывающий сюжетный элемент. А еще символ принятия боли и даже, вполне возможно, отсылка к «Восемь с половиной», ибо одно из этих созданий, беспомощно вихляющих жабрами, носит имя Гвидо.
Разве кто-то сомневался в том, что на самом деле Даниэля Качо наняли играть не Сильверио Гаму, а Алехандро Иньярриту? Режиссер, как и его экранный альтер эго, покинул страну, где родился, ради творчества и материальных благ, нахватал престижных премий за бугром, отрастил бороду и длинные патлы, забил гардеробный шкаф сотней пиджаков… И так же испытывал горечь утраты, и так же дурачился с домашними, и так же путался в мыслях, когда обстоятельства вынуждали не только наигранно улыбаться перед фотографами, но и замечать, что если раньше он на английском только говорил, то теперь на нем и еще думает (хоть в фильме общаются в основном на испанском, Иньярриту ловко обыгрывает редкие, но меткие проявления бесповоротной лингвистической ассимиляции). В целом и Сильверио, и Алехандро много о чем думают и много чего анализируют — не на потеху зрителю, разумеется. Как раз зритель на этом празднике кажется незваным гостем, который без стука вломился в кабинет, где постановщик вместе со своим психотерапевтом прорабатывает ментальные проблемы посредством игры — игры в кинорежиссера, снимающего фильм о самом себе и своих косяках перед родней, совестью, богом и даже перед аксолотлями сына, которых обрек на смерть от удушья. Милейшие подводные твари — это тоже, кстати, рифма, коих в сценарии немало. А еще важный закольцовывающий сюжетный элемент. А еще символ принятия боли и даже, вполне возможно, отсылка к «Восемь с половиной», ибо одно из этих созданий, беспомощно вихляющих жабрами, носит имя Гвидо.
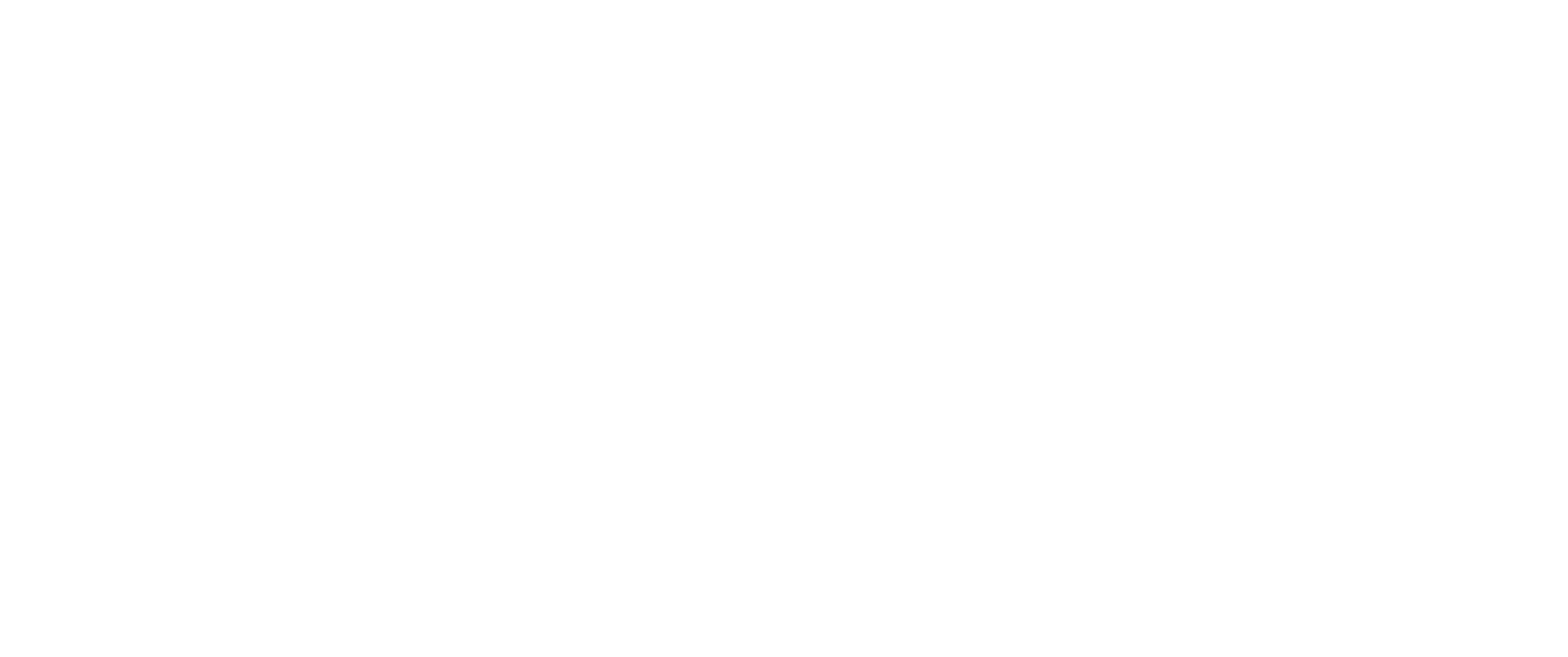
Алехандро и Сильверио не столько рассуждают, сколько гадают. О том, было ли лучше раньше, когда он — Гама — бегал с камерой в толпе эмигрантов на границе, или он — Иньярриту — работал ведущим на на рок-н-рольной радиостанции и трудился на ТВ. О том, заслужил ли он — Гама — премию «Алития» за журналистскую этику, или он — Иньярриту — все эти «Оскары» и мировое признание. О том, могут ли они оба считать себя американцами после почти четверти века жизни в США. И, реверс, можно ли называть их мексиканцами после 20-ти лет разлуки с родным грунтом. Почти трехчасовой «Бардо» соткан из сомнений, свойственных людям с синдромом самозванца — тем, кто, осознавая свою состоятельность в конкретном ремесле, предпочитают объяснять свои успехи чистым везением и прочими сторонними факторами. Изысканно ныть о том, как же тяжело на свете жить, когда у тебя все хорошо, и все хорошо получается — это если говорить грубо и по-русски. Все-таки жаль, что даже такое красивое, техничное и отменно поставленное зрелище, при всей его созерцательной внушительности, все равно больше походит на симпатичный автопортрет, нежели на полновесную кинокартину.
Кстати, словом «бардо» буддисты называют пограничное состояние/место, когда/где душа, умерев в одном теле, плавает по бесконечности, ожидая переселения в новую оболочку. Ну а «Бардо» Иньярриту — magnum opus в голове автора, однако enfant terrible в глазах зрителя — это странствие по периферии между выдуманным и подлинным, мытарство от сонма мыслей одного заросшего дядьки, которому скоро стукнет 60, до точно таких же дум точно такого же мужика, чьего лица мы в ленте не увидим, но который, очевидно, съемками этой самой ленты руководит.
Меду по усам не течь. Ложные истины не переигрывают неожиданное достоинство невежества. Небытие заразительно, а созидатель, предаваясь самоедству, почему-то забывает о том, что кино — эссенция не авторского промысла, а многоликой зрительской интерпретации.
Кстати, словом «бардо» буддисты называют пограничное состояние/место, когда/где душа, умерев в одном теле, плавает по бесконечности, ожидая переселения в новую оболочку. Ну а «Бардо» Иньярриту — magnum opus в голове автора, однако enfant terrible в глазах зрителя — это странствие по периферии между выдуманным и подлинным, мытарство от сонма мыслей одного заросшего дядьки, которому скоро стукнет 60, до точно таких же дум точно такого же мужика, чьего лица мы в ленте не увидим, но который, очевидно, съемками этой самой ленты руководит.
Меду по усам не течь. Ложные истины не переигрывают неожиданное достоинство невежества. Небытие заразительно, а созидатель, предаваясь самоедству, почему-то забывает о том, что кино — эссенция не авторского промысла, а многоликой зрительской интерпретации.
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.