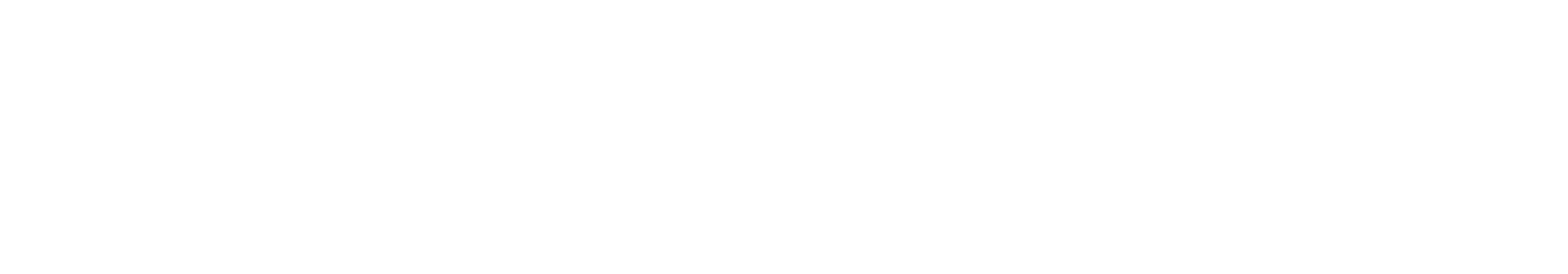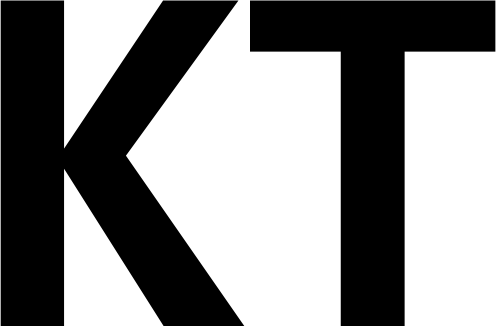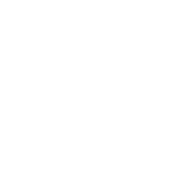ДМИТРИЙ ПОРЕЧНЫЙ | 13 ОКТЯБРЯ 2021
ПЕДРО АЛЬМОДОВАР: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИЗНАНКЕ
Как Педро Альмодовар исследует изнанку реальности, женскую чувственность и природу человеческого мироздания
ПЕДРО АЛЬМОДОВАР: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИЗНАНКЕ
ДМИТРИЙ ПОРЕЧНЫЙ | 13.10.2021
Как Педро Альмодовар исследует изнанку реальности, женскую чувственность и природу человеческого мироздания
ПЕДРО АЛЬМОДОВАР: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИЗНАНКЕ
ДМИТРИЙ ПОРЕЧНЫЙ | 13.10.2021
Как Педро Альмодовар исследует изнанку реальности, женскую чувственность и природу человеческого мироздания
«Для меня фильм – это всегда представление, а представление всегда включает в себя искусственные приемы. Так что когда мы говорим о реальности, мы имеем в виду искусство манипуляции».
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Кинематограф в эйзенштейновском понимании суть синтез, объединяющий чувство и мысль, впечатление и рациональное суждение. Этот кажущийся аксиоматическим тезис на практике претерпевает экстравагантные метаморфозы — внутренние изменения, отражающие авторские акценты. Во главе угла оказываются или идейная гипербола, дидактика, не терпящая субъективного прочтения, или пошлая, лишенная сколько-нибудь полноценных смыслов сентиментальность. Везде и всюду экранное искусство обслуживает примитив авторских амбиций и (или) зрительской потребности в пафосно-эмоциональной галлюцинации.
В случае с Педро Альмодоваром экстравагантность проявляется отнюдь не в строгом разграничении мысли и чувства, — онтологическом свойстве массового кино, — но в таком химическом сопряжении, которое обуславливает их взаимопроникновение, взаимоуравнивание. Под камерой-пером автора происходит полное и безоговорочное смешение художественных субстанций.
В случае с Педро Альмодоваром экстравагантность проявляется отнюдь не в строгом разграничении мысли и чувства, — онтологическом свойстве массового кино, — но в таком химическом сопряжении, которое обуславливает их взаимопроникновение, взаимоуравнивание. Под камерой-пером автора происходит полное и безоговорочное смешение художественных субстанций.
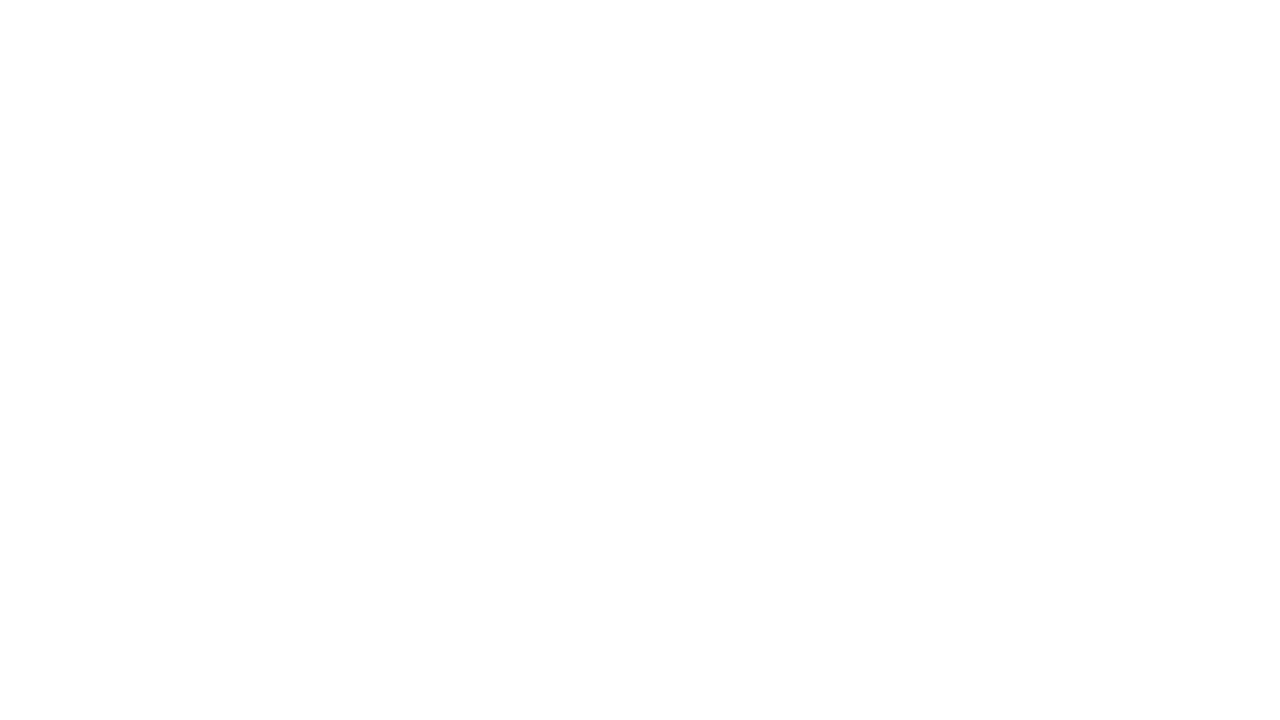
ИЗНАНКА ЯЗЫКА
Герои Альмодовара, путешествующие из фильма в фильм, мыслят категориями чувств и чувствуют, можно сказать, философски — так, будто излагают теорему жизни. Именно такой нарративный подход вооружает режиссера-исследователя в проблематизации эмоций, внутренней сути человека. Впрочем, невозможно исследовать чувство, самим при этом оставаясь бесчувственным.
Под тяжелым покрывалом эклектики скрывается сложность отношений мысли и чувства, их единство, порождающее новое качество. Такова сшитая многоцветными нитками изнанка, определяющая внешнее свойство лент чувственного испанца.
Альмодовар не терпит пошлых сантиментов, игнорирует необходимость нравоучений. «Я отдаю себе отчет, что мое намерение может остаться непонятым зрителем, но это мне почти все равно» — высказывался режиссер. Вероятно, именно здесь, в этом единичном утверждении берет начало зрительская любовь. Абсолютно каждый может выявить для себя и только для себя смысловое содержание альмодоваровского кино. Каждый зритель свободен как в эмоциональном впечатлении, так и в последующих интерпретациях. Любовь, как известно, вне свободы чахнет.
Дуализм, неизбежно возникающий из факта эмоционально-идейного равенства, определяет природу конструируемых Альмодоваром киномиров — не менее двойственных и противоречивых.
Под тяжелым покрывалом эклектики скрывается сложность отношений мысли и чувства, их единство, порождающее новое качество. Такова сшитая многоцветными нитками изнанка, определяющая внешнее свойство лент чувственного испанца.
Альмодовар не терпит пошлых сантиментов, игнорирует необходимость нравоучений. «Я отдаю себе отчет, что мое намерение может остаться непонятым зрителем, но это мне почти все равно» — высказывался режиссер. Вероятно, именно здесь, в этом единичном утверждении берет начало зрительская любовь. Абсолютно каждый может выявить для себя и только для себя смысловое содержание альмодоваровского кино. Каждый зритель свободен как в эмоциональном впечатлении, так и в последующих интерпретациях. Любовь, как известно, вне свободы чахнет.
Дуализм, неизбежно возникающий из факта эмоционально-идейного равенства, определяет природу конструируемых Альмодоваром киномиров — не менее двойственных и противоречивых.
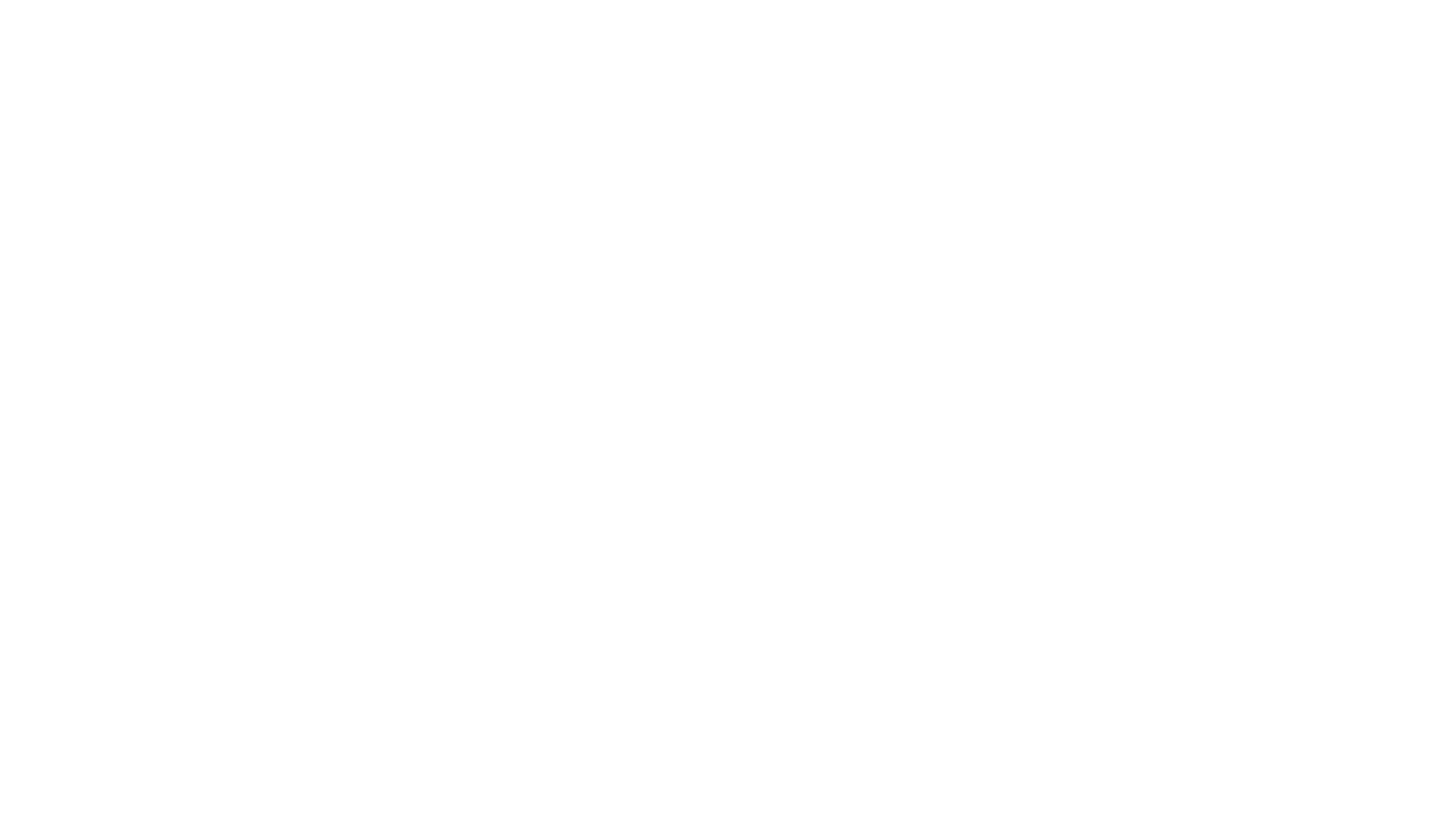
На съемках фильма «Закон желания» (1986)
Внешне дуальность прорывается в формальных основаниях авторского подхода: с одной стороны, сценарная строгость и скрупулезная проработка постановочных инициатив, выведенные наружу, с другой — изнаночная импульсивность, импровизационность, фиксирующая подчиненность кинообразу. Отношения наружной части и изнаночных оснований, видимая сложность их взаимного определения насыщает атмосферу альмодоваровского кино. «Фильм, — считает режиссер, — задает собственный ритм, которому приходится неукоснительно подчиняться, а это не позволяет тебе вернуться назад или же параллельно развить какую-нибудь дополнительную мысль. Фильм менее гибок, чем роман, даже если ты сам являешься автором сценария и задаешь канву повествования».
Внешняя, формальная раздвоенность имеет под собой законченное идейное основание. Альмодовар-кинематографист, оперируя элементами реальности — ключевым художественным ресурсом кино, — отдает предпочтение мельесовскому созиданию, искусству, оттеняющему реальность видимого. Именно поэтому кино для него, будучи представлением, является скорее «манипуляцией», нежели фотографически точным фиксатором. В понимании Альмодовара изнанка реальности, составляющая и определяющая последнюю, суть творческий акт художника, вымысел, условность которого оголяет подлинные законы бытия. «Реальность нуждается в вымысле, чтобы быть более полной, более приятной, более жизненной» — считает режиссер.
Альмодовар проникает в изнанку человеческого существования, обнаруживает подлинного человека. Именно через иррациональные переживания, через включение героев в алогичное пространство чувств, где единственный закон — это закон желания, оказывается возможным оголить, раскрыть истину жизни, правду, которую обыкновенно не замечают. Совсем по-уорхолловски режиссер «вытащил нутро наружу, а внешнее убрал вовнутрь».
Альмодовар — при свойственной ему театральности, перформативности — непроизвольно обращается ко внутренней природе кинематографа: демонстрация глубинных коллизий, смыслового напряжения на экране возможна только через внешние знаки, видимое хронотопическое движение. А значит и ощущение изнанки реальности, некоего зазеркалья возникает неспроста. Насыщенное красками внутрикадровое пространство, агрессивно гиперболизированный дизайн декораций и облика персонажей создают впечатление сюрреалистического орнамента, сравнимого с изнанкой какого-нибудь плотного свитера — столь же красочной, мозаичной и хаотичной.
Форма, как известно, требует адекватного содержания. Отсюда особенность нарратива, апеллирующего к изнаночному исследованию: на каждом этапе развития истории или конкретного персонажа возможны твисты, отражающие неподкупность ирреальной судьбы. Вездесущий Рок, расположенный в зазеркалье, игнорирует логические ожидания зрительского сознания — сложность, ставшая основанием художественного обогащения жанровых схем. Та же сложность проявляется и в отношении фабульных конструкций. Альмодоваровские сюжеты располагают комплексом неоднозначных событий и персонажей-перевертышей: любовница отца может заменить родную, но безумную и тираничную мать («Женщины на грани нервного срыва», 1988), тогда как ведомые страстью убийцы ищут единения в смерти, без которой не могут ни жить, ни даже просто существовать («Матадор», 1986).
В поисках человеческой изнанки режиссер забредает на улочки, полные маргинальных элементов. Здесь, на дне социальной стратификации, он вскрывает подлинную природу людей, исполненных животной страстью, преобладающей чувственностью, граничащей с бессознательной инстинктивностью. То, что так упорно скрывают официальная мораль и цивилизация. Возникает неподдельный романтический акцент, выраженный в критике городской жизни («Кика», «Закон желания», «За что мне это?», «Свяжи меня» и т. д.), в типаже благородного дикаря, («Закон желания», «Свяжи меня», «Живая плоть»), наконец, в двойственности реального и ирреального, свойственной всем фильмам Альмодовара: девочка, обладающая телекинезом в «За что мне это?»; декоративная квартира, расположенная в павильоне, в «Человеческом голосе»; постоянно воскрешающий юноша с больным сердцем в «Кике».
Внешняя, формальная раздвоенность имеет под собой законченное идейное основание. Альмодовар-кинематографист, оперируя элементами реальности — ключевым художественным ресурсом кино, — отдает предпочтение мельесовскому созиданию, искусству, оттеняющему реальность видимого. Именно поэтому кино для него, будучи представлением, является скорее «манипуляцией», нежели фотографически точным фиксатором. В понимании Альмодовара изнанка реальности, составляющая и определяющая последнюю, суть творческий акт художника, вымысел, условность которого оголяет подлинные законы бытия. «Реальность нуждается в вымысле, чтобы быть более полной, более приятной, более жизненной» — считает режиссер.
Альмодовар проникает в изнанку человеческого существования, обнаруживает подлинного человека. Именно через иррациональные переживания, через включение героев в алогичное пространство чувств, где единственный закон — это закон желания, оказывается возможным оголить, раскрыть истину жизни, правду, которую обыкновенно не замечают. Совсем по-уорхолловски режиссер «вытащил нутро наружу, а внешнее убрал вовнутрь».
Альмодовар — при свойственной ему театральности, перформативности — непроизвольно обращается ко внутренней природе кинематографа: демонстрация глубинных коллизий, смыслового напряжения на экране возможна только через внешние знаки, видимое хронотопическое движение. А значит и ощущение изнанки реальности, некоего зазеркалья возникает неспроста. Насыщенное красками внутрикадровое пространство, агрессивно гиперболизированный дизайн декораций и облика персонажей создают впечатление сюрреалистического орнамента, сравнимого с изнанкой какого-нибудь плотного свитера — столь же красочной, мозаичной и хаотичной.
Форма, как известно, требует адекватного содержания. Отсюда особенность нарратива, апеллирующего к изнаночному исследованию: на каждом этапе развития истории или конкретного персонажа возможны твисты, отражающие неподкупность ирреальной судьбы. Вездесущий Рок, расположенный в зазеркалье, игнорирует логические ожидания зрительского сознания — сложность, ставшая основанием художественного обогащения жанровых схем. Та же сложность проявляется и в отношении фабульных конструкций. Альмодоваровские сюжеты располагают комплексом неоднозначных событий и персонажей-перевертышей: любовница отца может заменить родную, но безумную и тираничную мать («Женщины на грани нервного срыва», 1988), тогда как ведомые страстью убийцы ищут единения в смерти, без которой не могут ни жить, ни даже просто существовать («Матадор», 1986).
В поисках человеческой изнанки режиссер забредает на улочки, полные маргинальных элементов. Здесь, на дне социальной стратификации, он вскрывает подлинную природу людей, исполненных животной страстью, преобладающей чувственностью, граничащей с бессознательной инстинктивностью. То, что так упорно скрывают официальная мораль и цивилизация. Возникает неподдельный романтический акцент, выраженный в критике городской жизни («Кика», «Закон желания», «За что мне это?», «Свяжи меня» и т. д.), в типаже благородного дикаря, («Закон желания», «Свяжи меня», «Живая плоть»), наконец, в двойственности реального и ирреального, свойственной всем фильмам Альмодовара: девочка, обладающая телекинезом в «За что мне это?»; декоративная квартира, расположенная в павильоне, в «Человеческом голосе»; постоянно воскрешающий юноша с больным сердцем в «Кике».
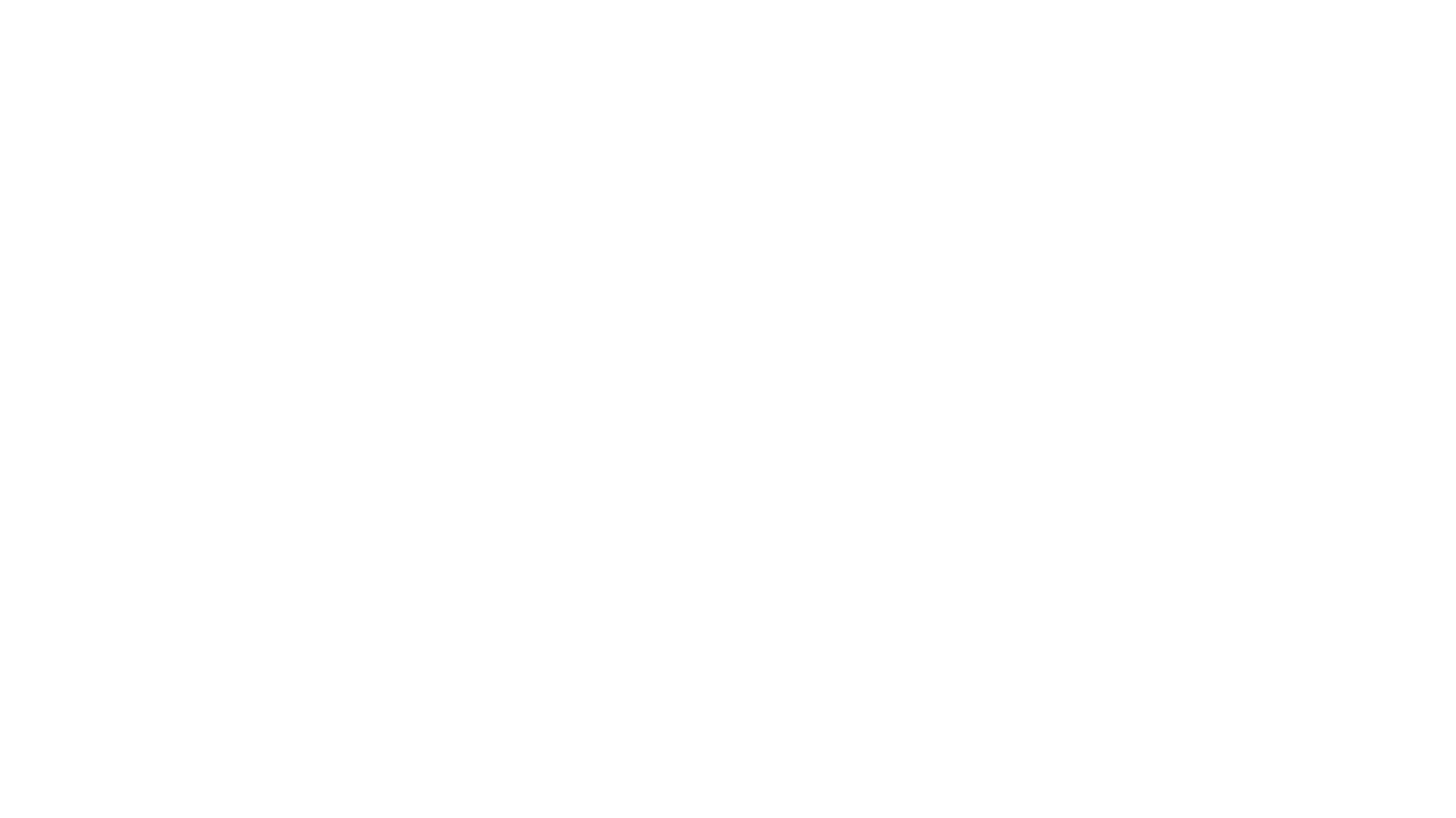
«Дурное воспитание» (2004)
Однако и Альмодовар, как художник, имеет собственную изнанку — то, что составляет режиссерское видение, обеспечивает работу камеры-пера. В этом смысле важно отметить интертекстуальное (изнаночное) значение режиссера-синефила, вобравшего, предвосхитившего и развившего некоторые кинематографические тенденции: от нуара, неореализма, французской новой волны, через неявные связки с югославской черной волной (и конкретно с Душаном Макавеевым), и вплоть до нового французского экстрима.
Та же внутренняя интертекстуальность проявляется в сопоставлении с другими авторами: окромя упомянутого Макавеева иногда встречаются кинокритические сравнения испанского режиссера с Ингмаром Бергманом. В качестве доказательства можно привести бергмановское пристрастие к женским персонажам, допущение иррационального, искажающего реальность репрезентации, изобилие бытовых сюжетов, романтизм и т. д. Если Бергман — теза, то Педро Альмодовар — антитеза, насыщенная жизнелюбивой тональностью. При этом и первый, и второй действуют по однонаправленному вектору: исследование изнанки человека, его чувственной природы. Справедливость подобных сравнений доказуема и с другой точки зрения: уровень и качество участия автора в собственном творчестве. Иными словами, насколько и в какой мере режиссер «растворяется» в своих произведениях? Бергман бесконечно присутствует в собственных фильмах; рассказывает о самом себе, о личных переживаниях, что особенно проявилось в раннем творчестве. Шведский автор не чурается возможности самолично предстать во внутрикадровом пространстве в качестве статиста. Бергман вездесущим богом охватывает сотворенные им миры; сам является в них, выступая не то судьей, не то сторонним наблюдателем: сначала в художественном обрамлении третьего лица-адвоката («Дождь над нашей любовью»), затем ирреально в форме закадрового голоса-рассказчика, и наконец — во плоти («Жажда», «Женщины ждут», «Урок любви» и т. д.). Педро Альмодовар не менее «авторский» автор. Большая часть лент — по собственным заверениям режиссера — пресыщена событиями из его личной жизни: начиная с учебы в семинарии и заканчивая молодостью в Мадриде. Доведенная до абсолютной концентрации жизнь Альмодовара получила прямое выражение в фильме «Боль и слава» (2018), в котором почти дословно представлена биография режиссера и особенно та ее часть, в которой переживаются взаимоотношения с матерью. Он также нередко включался в собственные фильмы статистом или второплановым персонажем: это и ведущий в «Пепи, Люси, Бом и остальные девушки», и организатор модного показа в «Матадоре»; появляется режиссер и в фильме «Дурное воспитание». В кадре неизменно присутствует брат Альмодовара — Агустин, также выполняющий функции персонажа второго плана.
Однако в отличие от Бергмана, тяготеющего к абстрактному идейному кино, в котором каждый персонаж не столько живет, сколько «означает», Альмодовар волен насыщать своих героев самостоятельной жизнью. Они способны, по словам Стросса, существовать и вне автора.
Парадоксальность Альмодовара создает основание для сравнения с советским режиссером Эльдаром Рязановым: обилие фактурных женских персонажей, не единожды становившихся предметом его исследований, соседствует с авторским тяготением к бытовым сюжетам, к самой жизни. Рязанов также часто появляется внутри созданного им самим кинополотна: в качестве статиста, активного персонажа второго плана, или даже поэта-автора песенного сопровождения. Если для Альмодовара демонстрация жизни персонажей есть также и предлог для раскрытия особенностей жизни Мадрида, то для Рязанова объектом исследования становится Москва — с правящих верхов и вплоть до маргиналов, выставленных напоказ в 90-е.
Советский режиссер активно обращался к желаниям, к чувственности своих героев, к их сексуальности. Он не боялся затрагивать болезненные для советского и российского общества проблемы (за что и прослыл в некоторых кругах декадентом). Он нередко в иносказательном ключе оголял социальные язвы — также лаконично и элегантно, как это делали Альмодовар и Бергман. В постперестроечный период, в эпоху независимости России именно Рязанов одним из первых обратился к изнанке общественного бытия, обнажил нелакированную сущность своих сограждан. Существенное и определяющее отличие Альмодовара от Рязанова заключается в тональности (впрочем, также, как и в случае с Бергманом): в лирической составляющей, определяющей крайний сентиментализм рязановского киноповествования.
Педро Альмодовар, представляющий зрителям свободу трактовок, остается верен собственному киноязыку. В итоге автор существует как бы вне авторского диктата — феноменальная конфигурация, отражающая адекватный режиссеру и его творчеству дуализм. Мысль и чувство, искусственность и действительность, театр и кино, мужчина и женщина, жизнь и смерть — все это на экране Альмодовара кажется неразрывно связанным, единым, составляющим не только полотно произведения, но и основание внеэкранного, подлинного бытия.
В этом бульоне разнообразностей режиссер ищет первопричину искусства — впечатление, перетекающее в художественную мысль. Будто под диктовку Риччото Канудо, который видел в кино возможность «возвратить изображение жизни к источникам всех эмоций», испанский режиссер выстраивает свои фильмы — чувственные, психологичные, реалистические и сюрреалистические одновременно. И, кажется, у него это дотошное строительство выходит крайне плодотворным: в каждом отдельном кадре, в монтажной фразе, в целокупности готового фильма оголяются сокрытые от глаз основания человеческой жизни. Жизни, невозможной без чувств и эмоций. Именно последние и составляют искомое изнаночное содержание альмодоваровского кино.
Та же внутренняя интертекстуальность проявляется в сопоставлении с другими авторами: окромя упомянутого Макавеева иногда встречаются кинокритические сравнения испанского режиссера с Ингмаром Бергманом. В качестве доказательства можно привести бергмановское пристрастие к женским персонажам, допущение иррационального, искажающего реальность репрезентации, изобилие бытовых сюжетов, романтизм и т. д. Если Бергман — теза, то Педро Альмодовар — антитеза, насыщенная жизнелюбивой тональностью. При этом и первый, и второй действуют по однонаправленному вектору: исследование изнанки человека, его чувственной природы. Справедливость подобных сравнений доказуема и с другой точки зрения: уровень и качество участия автора в собственном творчестве. Иными словами, насколько и в какой мере режиссер «растворяется» в своих произведениях? Бергман бесконечно присутствует в собственных фильмах; рассказывает о самом себе, о личных переживаниях, что особенно проявилось в раннем творчестве. Шведский автор не чурается возможности самолично предстать во внутрикадровом пространстве в качестве статиста. Бергман вездесущим богом охватывает сотворенные им миры; сам является в них, выступая не то судьей, не то сторонним наблюдателем: сначала в художественном обрамлении третьего лица-адвоката («Дождь над нашей любовью»), затем ирреально в форме закадрового голоса-рассказчика, и наконец — во плоти («Жажда», «Женщины ждут», «Урок любви» и т. д.). Педро Альмодовар не менее «авторский» автор. Большая часть лент — по собственным заверениям режиссера — пресыщена событиями из его личной жизни: начиная с учебы в семинарии и заканчивая молодостью в Мадриде. Доведенная до абсолютной концентрации жизнь Альмодовара получила прямое выражение в фильме «Боль и слава» (2018), в котором почти дословно представлена биография режиссера и особенно та ее часть, в которой переживаются взаимоотношения с матерью. Он также нередко включался в собственные фильмы статистом или второплановым персонажем: это и ведущий в «Пепи, Люси, Бом и остальные девушки», и организатор модного показа в «Матадоре»; появляется режиссер и в фильме «Дурное воспитание». В кадре неизменно присутствует брат Альмодовара — Агустин, также выполняющий функции персонажа второго плана.
Однако в отличие от Бергмана, тяготеющего к абстрактному идейному кино, в котором каждый персонаж не столько живет, сколько «означает», Альмодовар волен насыщать своих героев самостоятельной жизнью. Они способны, по словам Стросса, существовать и вне автора.
Парадоксальность Альмодовара создает основание для сравнения с советским режиссером Эльдаром Рязановым: обилие фактурных женских персонажей, не единожды становившихся предметом его исследований, соседствует с авторским тяготением к бытовым сюжетам, к самой жизни. Рязанов также часто появляется внутри созданного им самим кинополотна: в качестве статиста, активного персонажа второго плана, или даже поэта-автора песенного сопровождения. Если для Альмодовара демонстрация жизни персонажей есть также и предлог для раскрытия особенностей жизни Мадрида, то для Рязанова объектом исследования становится Москва — с правящих верхов и вплоть до маргиналов, выставленных напоказ в 90-е.
Советский режиссер активно обращался к желаниям, к чувственности своих героев, к их сексуальности. Он не боялся затрагивать болезненные для советского и российского общества проблемы (за что и прослыл в некоторых кругах декадентом). Он нередко в иносказательном ключе оголял социальные язвы — также лаконично и элегантно, как это делали Альмодовар и Бергман. В постперестроечный период, в эпоху независимости России именно Рязанов одним из первых обратился к изнанке общественного бытия, обнажил нелакированную сущность своих сограждан. Существенное и определяющее отличие Альмодовара от Рязанова заключается в тональности (впрочем, также, как и в случае с Бергманом): в лирической составляющей, определяющей крайний сентиментализм рязановского киноповествования.
Педро Альмодовар, представляющий зрителям свободу трактовок, остается верен собственному киноязыку. В итоге автор существует как бы вне авторского диктата — феноменальная конфигурация, отражающая адекватный режиссеру и его творчеству дуализм. Мысль и чувство, искусственность и действительность, театр и кино, мужчина и женщина, жизнь и смерть — все это на экране Альмодовара кажется неразрывно связанным, единым, составляющим не только полотно произведения, но и основание внеэкранного, подлинного бытия.
В этом бульоне разнообразностей режиссер ищет первопричину искусства — впечатление, перетекающее в художественную мысль. Будто под диктовку Риччото Канудо, который видел в кино возможность «возвратить изображение жизни к источникам всех эмоций», испанский режиссер выстраивает свои фильмы — чувственные, психологичные, реалистические и сюрреалистические одновременно. И, кажется, у него это дотошное строительство выходит крайне плодотворным: в каждом отдельном кадре, в монтажной фразе, в целокупности готового фильма оголяются сокрытые от глаз основания человеческой жизни. Жизни, невозможной без чувств и эмоций. Именно последние и составляют искомое изнаночное содержание альмодоваровского кино.
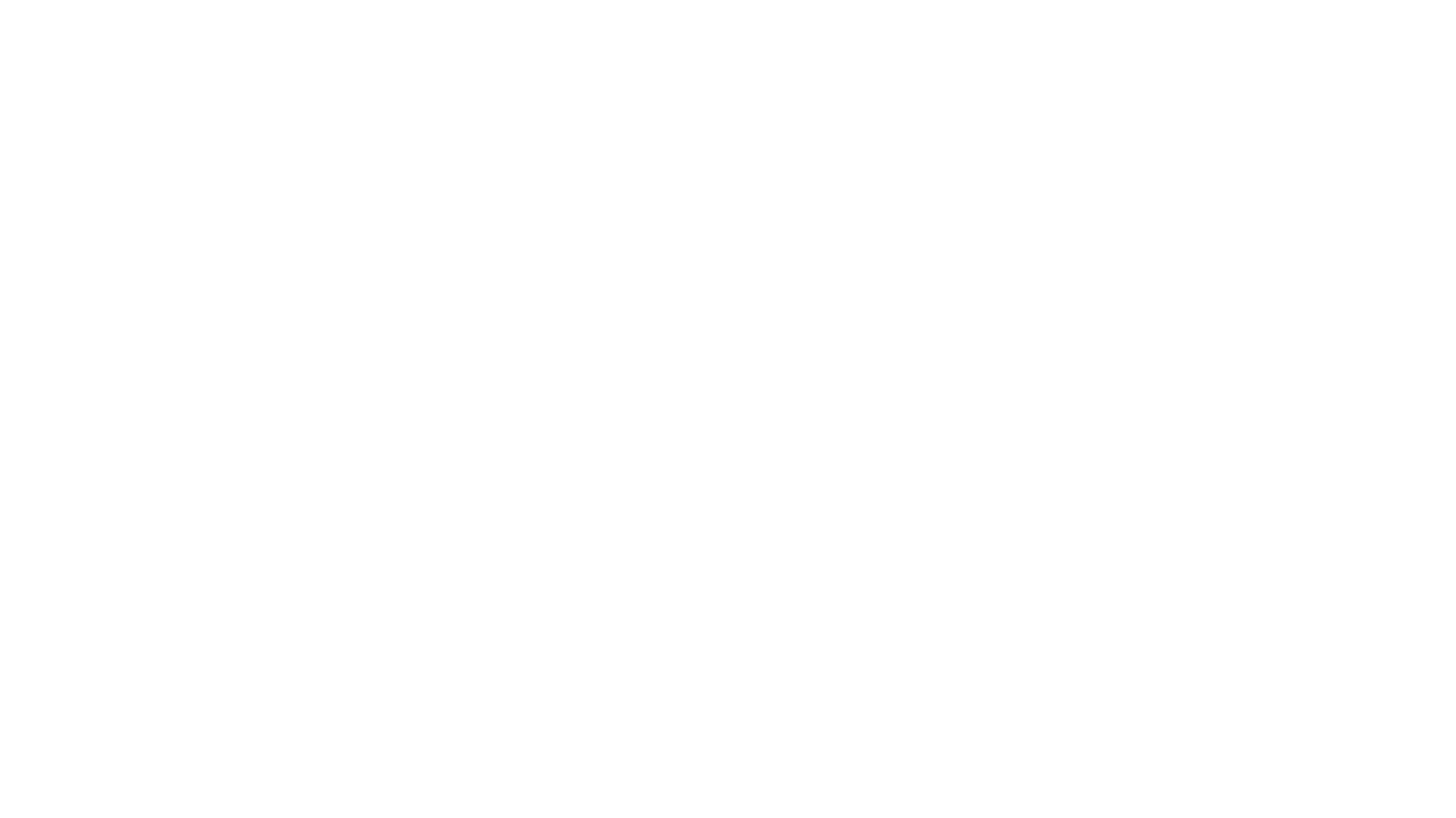
«Все о моей матери» (1999)
ВАРИАЦИЯ КОКТО. ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА
Все дороги ведут к женщине. Именно так следовало бы начать настоящую статью.
Чувственность, взятая в фокус, неизбежно требует адекватного медиума. Поскольку миры Альмодовара существуют по законам желания, постольку женщина — архетип избыточной эмоциональности — обретает медиальное значение, становится ключевым субъектом киноповествования.
В вопросе женской эмоциональности режиссер обращается к уже привычному дуализму внешнего и изнанки. Эмоциональные переживания, плотские страсти, будучи материалистическим сегментом, претерпевают под его рукой процесс сакрализации; он буквально внушает чувству бытийное значение, вводит его в онтологическое основание реальности. Именно чувственность (часто совсем животная) обеспечивает жизнь, определяет законы человеческого мироздания — и потому она запредельна, сакральна. В этом также кроется смысл проблемы мужского-женского, на предмет которой Альмодовар не раз заводил философские кино-рассуждения. Мужчина лишен способности сакрального переживания, если, конечно, в нем не превалирует женская сторона. Именно женщина, напрямую связанная с ирреальным чувством, может быть источником бытия. В случае с Альмодоваром — художественным фундаментом всей фильмографии.
Интертекст составляет изнанку фильмов Альмодовара — тезис, от которого следует отталкиваться и впредь. В своем стремлении «оживить», обновить уже существующие художественные парадигмы, конкретные произведения искусства, режиссер рано или поздно должен был столкнуться с пьесой Жана Кокто «Человеческий голос». Хотя бы потому, что с самого начала карьеры интересуется женской природой.
Все дороги альмодоваровской фильмографии ведут к женщине, а следовательно и к пьесе Кокто. Неспроста режиссер усматривал в своих героинях аллюзии на самого себя. Они суть репрезентация личной рефлексии, возникшая из ассоциации. И именно поэтому «Человеческий голос» в авторской интерпретации есть также и личный монолог — монолог-исследование самого Альмодовара.
Интертекстуальность в совмещении с авторским самосознанием рождает вариативность: при всей эклектичности режиссер сохраняет собственное лицо, допуская художественные трактовки первичного материала. Одарив женщину правом голоса и чувства, он бесконечно варьирует мотивы пьесы, пока наконец не аккумулирует результаты авторской интенции в полноценном метре. Впрочем, еще до прошлогоднего «Человеческого голоса» Альмодовар активно прорабатывал произведение Кокто, на основании которого возникали целые фильмографические сюжеты — близкие первоисточнику или не очень.
Чувственность, взятая в фокус, неизбежно требует адекватного медиума. Поскольку миры Альмодовара существуют по законам желания, постольку женщина — архетип избыточной эмоциональности — обретает медиальное значение, становится ключевым субъектом киноповествования.
В вопросе женской эмоциональности режиссер обращается к уже привычному дуализму внешнего и изнанки. Эмоциональные переживания, плотские страсти, будучи материалистическим сегментом, претерпевают под его рукой процесс сакрализации; он буквально внушает чувству бытийное значение, вводит его в онтологическое основание реальности. Именно чувственность (часто совсем животная) обеспечивает жизнь, определяет законы человеческого мироздания — и потому она запредельна, сакральна. В этом также кроется смысл проблемы мужского-женского, на предмет которой Альмодовар не раз заводил философские кино-рассуждения. Мужчина лишен способности сакрального переживания, если, конечно, в нем не превалирует женская сторона. Именно женщина, напрямую связанная с ирреальным чувством, может быть источником бытия. В случае с Альмодоваром — художественным фундаментом всей фильмографии.
Интертекст составляет изнанку фильмов Альмодовара — тезис, от которого следует отталкиваться и впредь. В своем стремлении «оживить», обновить уже существующие художественные парадигмы, конкретные произведения искусства, режиссер рано или поздно должен был столкнуться с пьесой Жана Кокто «Человеческий голос». Хотя бы потому, что с самого начала карьеры интересуется женской природой.
Все дороги альмодоваровской фильмографии ведут к женщине, а следовательно и к пьесе Кокто. Неспроста режиссер усматривал в своих героинях аллюзии на самого себя. Они суть репрезентация личной рефлексии, возникшая из ассоциации. И именно поэтому «Человеческий голос» в авторской интерпретации есть также и личный монолог — монолог-исследование самого Альмодовара.
Интертекстуальность в совмещении с авторским самосознанием рождает вариативность: при всей эклектичности режиссер сохраняет собственное лицо, допуская художественные трактовки первичного материала. Одарив женщину правом голоса и чувства, он бесконечно варьирует мотивы пьесы, пока наконец не аккумулирует результаты авторской интенции в полноценном метре. Впрочем, еще до прошлогоднего «Человеческого голоса» Альмодовар активно прорабатывал произведение Кокто, на основании которого возникали целые фильмографические сюжеты — близкие первоисточнику или не очень.
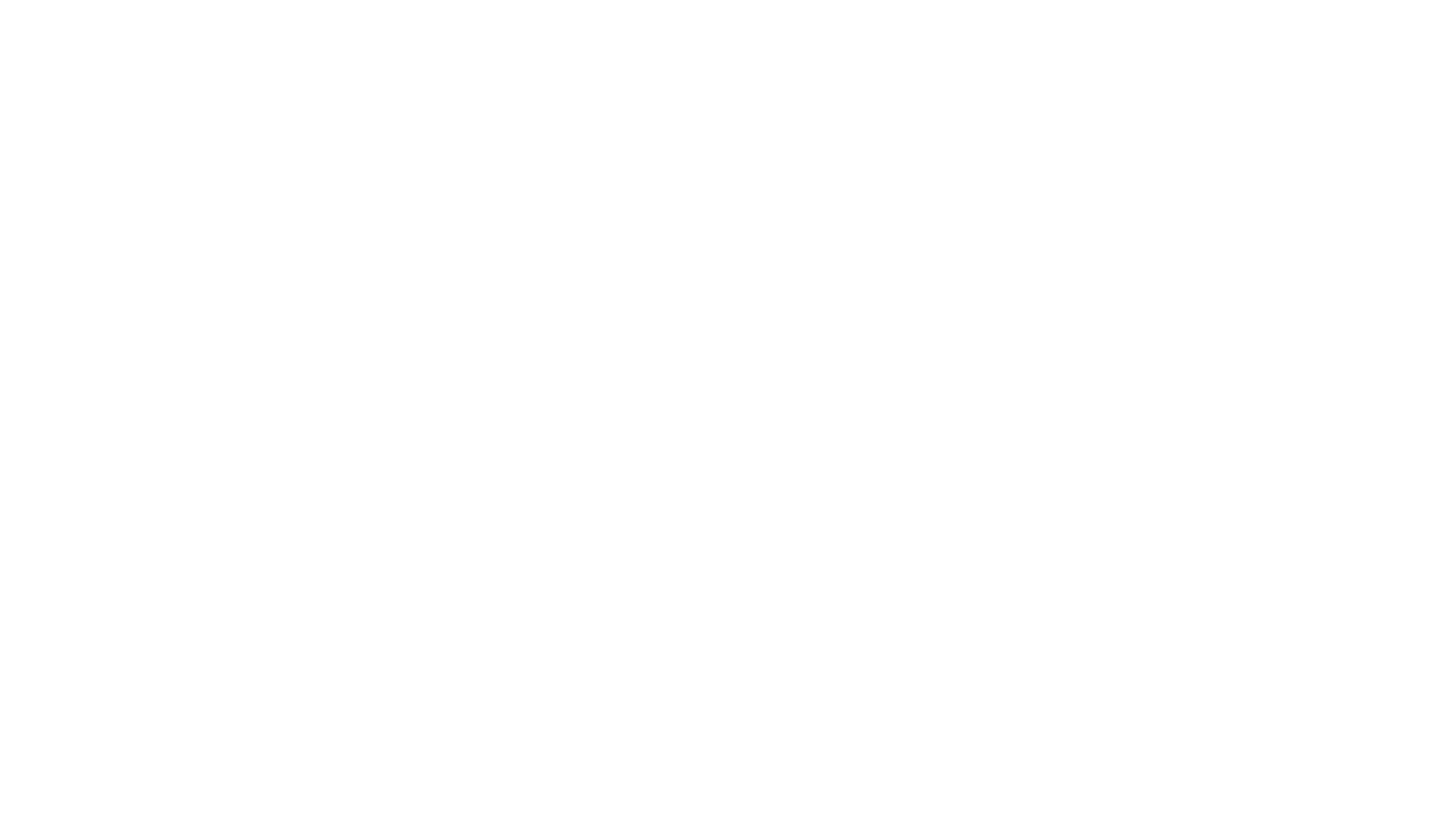
«Женщины на грани нервного срыва» (1988)
В 1986 году на испанские экраны выходит фильм «Женщины на грани срыва». На этот раз режиссер, будто в подтверждение личной двойственности, выбирает сразу два художественных основания. С одной стороны, он развивает фрагмент-огрызок из фильма «Закон желания» (1987), в котором героиня Кармен Мауры по сюжету исполняла жан-коктовский монолог, с другой — собственно сама пьеса в первозданном виде. Сопрягая интертекстуальность и «авторскость» Альмодовар разрабатывает 40-минутную постановку в целокупность полного метра.
Однако акцент остается на все тот же женский монолог, углубленный игровым действием.
Пепа (Кармен Маура) терпит расставание с любовником, с которым если и может поговорить, то лишь через различного рода медиумы: дубляж, запись телефонного звонка, забытые письма… Альмодовар буквально ощупывает интонации, гиперболизируя изъявление голоса чередой крупных планов: сакрализация чувственного, встречаемая зрителем не единожды. Голос, переходящий на носители, на художественное полотно, лишенный источника обращается ирреальным знаком, фиксирующим факт столь же ирреального переживания. Необходимый диалог разлагается в несвязанные монологи с превалированием женского голоса. Диалог, которому из природы коктовского сюжета не суждено быть.
Альмодовар, дополняя первоисточник Жана Кокто, включает условного мужчину в нарратив. Эпизод-вступление, отражающий сон героини Мауры, раскрывает идейно-сатирическое значение голоса Ивана (Фернандо Гильен): в черно-белой палитре он вольно отбрасывает клятвы различным девушкам. Происходит нарративное и формально-постановочное обесценивание мужского слова. Оно почти не существует, поскольку игнорирует законы альмодоваровского чувственного мира. Отсюда черно-белый формат фрагмента, противопоставленный привычной цветовой гамме. Будто в подтверждение тезиса развивается и история: Пепа дважды ломает телефон, а затем, в аэропорту, прекращает какие-либо связи с Иваном, не позволяя желаемому диалогу случиться. Сакральность остается неизменным атрибутом именно женской чувственности.
Мужские персонажи ленты, включая героя Антонио Бандераса — сына Ивана — в большинстве своем условны, схематичны, бесхарактерны. Последнее явствует из нарратива: персонаж Бандераса безвольно следует за своей невестой, безропотно, почти бессознательно-инстинктивно пускается на измену; Иван по итогу остается с адвокатом-феминисткой — волевой и агрессивной женщиной. В остальных случаях Альмодовару легче усыпить мужчину, нежели раскрыть его в качестве действующего лица. Мужчина почти не волнует режиссера — он лишь производное от женщины, плоское и малоинтересное существо. Cущество, скорее абстрактное, которое можно игнорировать. Что делает Кокто в своей пьесе и что с лихвой перенимает испанский режиссер.
Однако акцент остается на все тот же женский монолог, углубленный игровым действием.
Пепа (Кармен Маура) терпит расставание с любовником, с которым если и может поговорить, то лишь через различного рода медиумы: дубляж, запись телефонного звонка, забытые письма… Альмодовар буквально ощупывает интонации, гиперболизируя изъявление голоса чередой крупных планов: сакрализация чувственного, встречаемая зрителем не единожды. Голос, переходящий на носители, на художественное полотно, лишенный источника обращается ирреальным знаком, фиксирующим факт столь же ирреального переживания. Необходимый диалог разлагается в несвязанные монологи с превалированием женского голоса. Диалог, которому из природы коктовского сюжета не суждено быть.
Альмодовар, дополняя первоисточник Жана Кокто, включает условного мужчину в нарратив. Эпизод-вступление, отражающий сон героини Мауры, раскрывает идейно-сатирическое значение голоса Ивана (Фернандо Гильен): в черно-белой палитре он вольно отбрасывает клятвы различным девушкам. Происходит нарративное и формально-постановочное обесценивание мужского слова. Оно почти не существует, поскольку игнорирует законы альмодоваровского чувственного мира. Отсюда черно-белый формат фрагмента, противопоставленный привычной цветовой гамме. Будто в подтверждение тезиса развивается и история: Пепа дважды ломает телефон, а затем, в аэропорту, прекращает какие-либо связи с Иваном, не позволяя желаемому диалогу случиться. Сакральность остается неизменным атрибутом именно женской чувственности.
Мужские персонажи ленты, включая героя Антонио Бандераса — сына Ивана — в большинстве своем условны, схематичны, бесхарактерны. Последнее явствует из нарратива: персонаж Бандераса безвольно следует за своей невестой, безропотно, почти бессознательно-инстинктивно пускается на измену; Иван по итогу остается с адвокатом-феминисткой — волевой и агрессивной женщиной. В остальных случаях Альмодовару легче усыпить мужчину, нежели раскрыть его в качестве действующего лица. Мужчина почти не волнует режиссера — он лишь производное от женщины, плоское и малоинтересное существо. Cущество, скорее абстрактное, которое можно игнорировать. Что делает Кокто в своей пьесе и что с лихвой перенимает испанский режиссер.
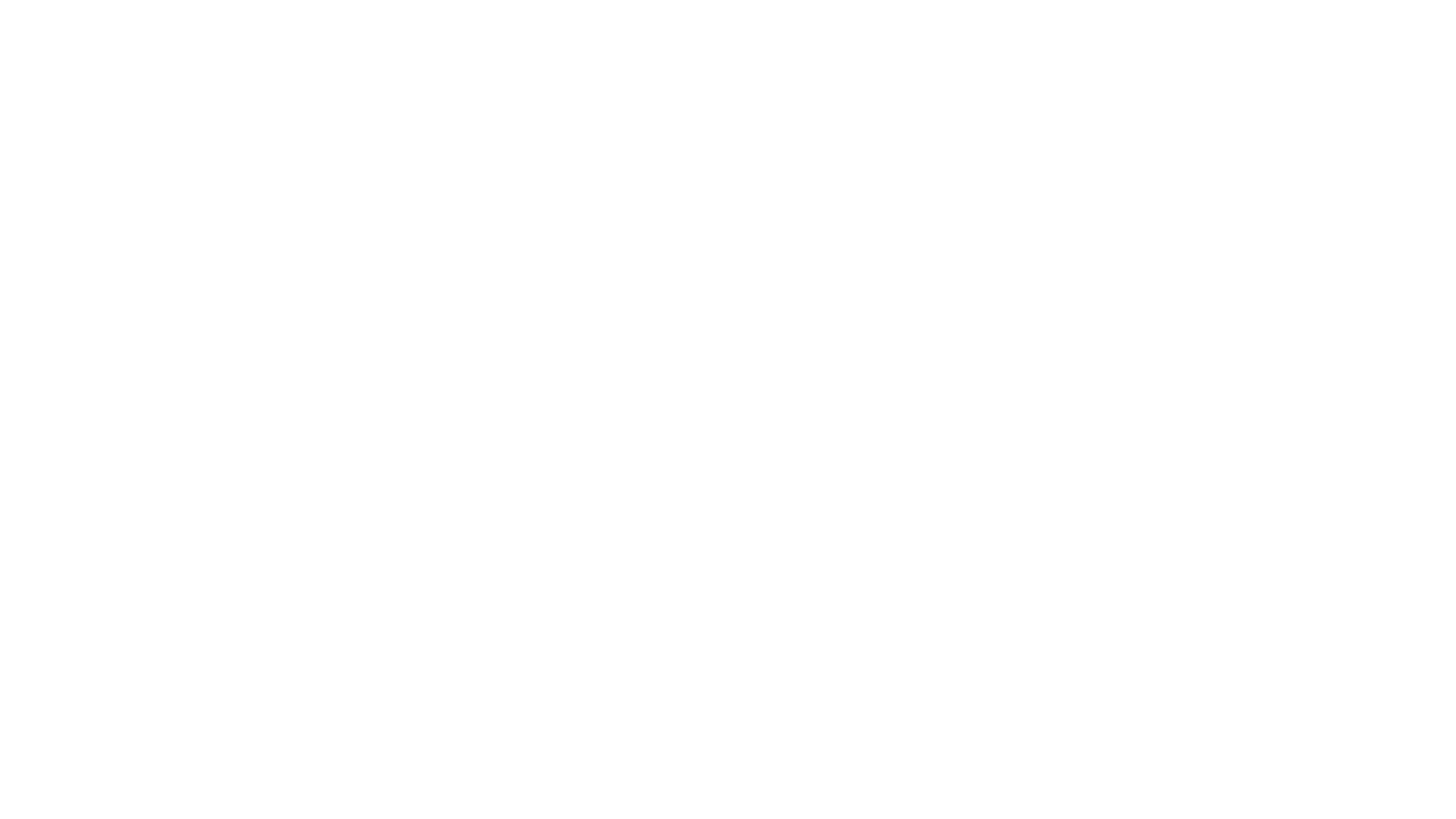
«Женщины на грани нервного срыва» (1988)
«Человеческий голос» в первом исполнении Альмодовара располагает двойным смысловым дном. Необходимость диалога между мужчиной и беременной женщиной — это прежде всего необходимость диалога внутри всего человечества. Именно от него зависит будущая жизнь. Частный монолог Пепы, резко обозначенный на фоне невозможности искреннего разговора, превращается в требовательный манифест мира, любви и взаимопонимания — вне всяких половых разграничений. Впрочем, режиссер, утверждая манифестирующую композицию, остается на стороне женщины. Мужчина из низменного страха разговаривать не желает.
Процесс эмоционального переживания материализуется, представляя зрителю персонифицированные грани женского чувства. С одной стороны, Кандела (Мария Барранко) непроизвольно оказывается соучастницей террористического акта: отчаяние и наивность окутывают героиню. Неудачная попытка самоубийства — скорее комический акт, нежели серьезное происшествие. С другой стороны предстает обезумевшая бывшая жена Ивана (Хулиета Серрано), исступленно выискивающая расплаты над мужем. С третьей, адвокат (Китти Манвер), из личных соображений наплевавшая на свои обязательства. Агрессивная маскулинность, будто бы впитанная в борьбе с патриархатом, пронизывает персонаж. Эти героини-типажи, олицетворяющие крайности чувственного переживания, прослеживаются в психологическом развитии Пепы: ожидание звонка, наивность; затем безумие, которое буквально удается потушить; и наконец — волевое спокойствие, мужественность женщины, не переходящая в тупую маскулинность.
Интересно, что наиболее неприятный, однозначно отрицательный персонаж — героиня Манвер, феминистка, отрабатывающая дела женщин в адвокатской конторе. Именно она игнорирует беду Канделы, за что получает пощечину от Пепы. Женщина, которая стремиться сохранить самое себя, одерживает верх над женщиной, явно перенявшей мужские повадки. Отсюда критика радикального феминизма при профеминистском настрое альмодоваровских лент. Очередной признак изнаночного дуализма.
Последний, к слову, подтверждается также и с формально-постановочных позиций.
Альмодовар, оставаясь верен собственному пониманию кинотворчества, активно смешивает реальность и вымысел. В случае с интерпретацией пьесы Кокто смешение осуществляется посредством включения театрального компонента в кинематографическое пространство. Благодаря живой взаимосвязи авторского начала и самостоятельного первоисточника со своими сугубо театральными законами и требованиями обосновывается равенство фотографической действительности и декоративной выдумки. Фильмы Альмодовара (за исключением неореалистических опытов в «За что мне это?» и в «Все о моей матери») обыкновенно обрамляются кукольным экстерьером, некоей искусственностью, выводящей на первый план внутренний психологизм нарративных коллизий. В фильме «Женщины на грани нервного срыва» «кукольность» цепко сопряжена с реализмом эпизодов на натуре. Однако реализм проигрывает художественной вольности, обращаясь чистой манипуляцией, сном, который способен, например, превратить девственницу в женщину наяву.
Обращение вовнутрь человека осуществляется посредством антуража декораций, отражающих через внешнюю искусственность внутреннюю правду героев: плоские планы-тревеллинги и условный аэропорт, выдающийся на фоне камерного пространства квартиры Пепы, в которой происходит почти всё действие, сигнализируют о контрапункте действительного и выдуманного с акцентом на последнее. Акцентом, определяющим фокус камеры Альмодовара — во главе угла стоят психологические коллизии героев.
Процесс эмоционального переживания материализуется, представляя зрителю персонифицированные грани женского чувства. С одной стороны, Кандела (Мария Барранко) непроизвольно оказывается соучастницей террористического акта: отчаяние и наивность окутывают героиню. Неудачная попытка самоубийства — скорее комический акт, нежели серьезное происшествие. С другой стороны предстает обезумевшая бывшая жена Ивана (Хулиета Серрано), исступленно выискивающая расплаты над мужем. С третьей, адвокат (Китти Манвер), из личных соображений наплевавшая на свои обязательства. Агрессивная маскулинность, будто бы впитанная в борьбе с патриархатом, пронизывает персонаж. Эти героини-типажи, олицетворяющие крайности чувственного переживания, прослеживаются в психологическом развитии Пепы: ожидание звонка, наивность; затем безумие, которое буквально удается потушить; и наконец — волевое спокойствие, мужественность женщины, не переходящая в тупую маскулинность.
Интересно, что наиболее неприятный, однозначно отрицательный персонаж — героиня Манвер, феминистка, отрабатывающая дела женщин в адвокатской конторе. Именно она игнорирует беду Канделы, за что получает пощечину от Пепы. Женщина, которая стремиться сохранить самое себя, одерживает верх над женщиной, явно перенявшей мужские повадки. Отсюда критика радикального феминизма при профеминистском настрое альмодоваровских лент. Очередной признак изнаночного дуализма.
Последний, к слову, подтверждается также и с формально-постановочных позиций.
Альмодовар, оставаясь верен собственному пониманию кинотворчества, активно смешивает реальность и вымысел. В случае с интерпретацией пьесы Кокто смешение осуществляется посредством включения театрального компонента в кинематографическое пространство. Благодаря живой взаимосвязи авторского начала и самостоятельного первоисточника со своими сугубо театральными законами и требованиями обосновывается равенство фотографической действительности и декоративной выдумки. Фильмы Альмодовара (за исключением неореалистических опытов в «За что мне это?» и в «Все о моей матери») обыкновенно обрамляются кукольным экстерьером, некоей искусственностью, выводящей на первый план внутренний психологизм нарративных коллизий. В фильме «Женщины на грани нервного срыва» «кукольность» цепко сопряжена с реализмом эпизодов на натуре. Однако реализм проигрывает художественной вольности, обращаясь чистой манипуляцией, сном, который способен, например, превратить девственницу в женщину наяву.
Обращение вовнутрь человека осуществляется посредством антуража декораций, отражающих через внешнюю искусственность внутреннюю правду героев: плоские планы-тревеллинги и условный аэропорт, выдающийся на фоне камерного пространства квартиры Пепы, в которой происходит почти всё действие, сигнализируют о контрапункте действительного и выдуманного с акцентом на последнее. Акцентом, определяющим фокус камеры Альмодовара — во главе угла стоят психологические коллизии героев.
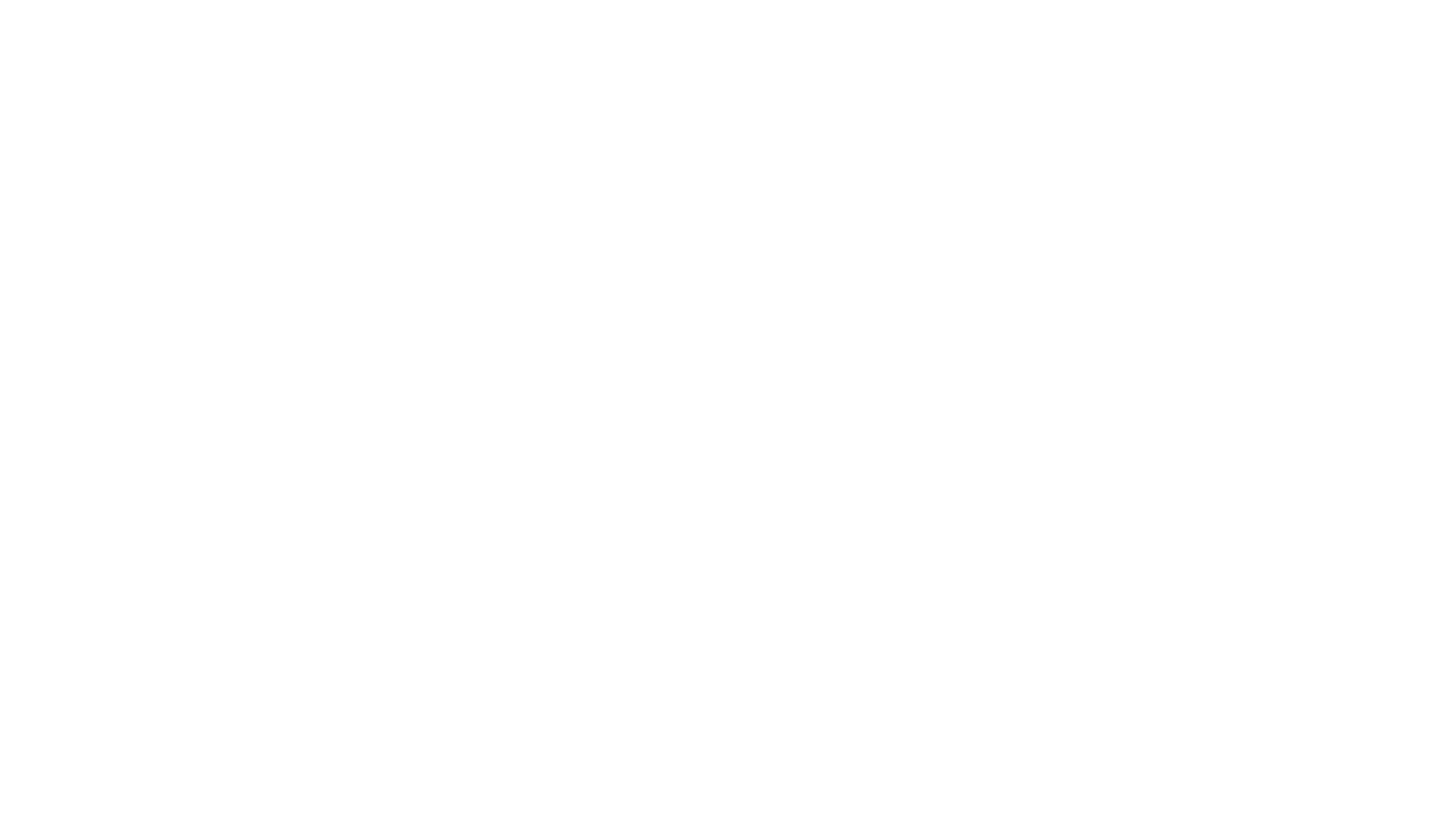
«Человеческий голос» (2020)
Автор, формально подчиняясь художественной логике пьесы, разрешает ее весьма экстравагантно: факт театральности интертекстуально осознается посредством включения реалистических планов (и, следовательно, противопоставления им). Тем самым видоизменяет и смысловое содержание фильма. Нарратив — пресловутое движение сюжета от точки А к точке Б — суть ширма, скрывающая подтекстные смыслы.
Факт монолога, рефлексии подчеркивается особенно. В условиях театра именно актер создает полотно произведения, именно перформанс составляет ткань постановки. Кинематографическая интерпретация Альмодовара работает в схожем ключе. Режиссер по своей интертекстуальной природе ощущает языковую ориентацию Кокто, неспроста привнося в повествование гиперболу театральности. «Женщины на грани нервного срыва» — интертекст, с одной стороны, исследующий язык французского писателя, с другой — углубляющий и развивающий проблематику первоисточника.
Героине Мауры совсем не нужен второй субъект диалога, чтобы исследовать саму себя: потому вполне ясно, чем руководствуется женщина, ища и одновременно не допуская диалога с любимым и ненавистным мужчиной. Ее фактическое существование переносится вовнутрь, а искусственность, заметная с первых кадров комбинированной съемки, только подчеркивает ирреальное переживание Пепы. Все, что происходит на экране — суть движение изнутри, развитие внутренней эмоциональности, расположенной в бытийной изнанке. Это делает картину Альмодовара частью абстрактной: живые персонажи со своими переживаниями обращаются «означающими» объектами, нанизанными на костяк в лице главной героини. Перформанс второстепенных персонажей превращается в комплекс смысловых обертонов перемен, которые испытывает Пепа в процессе духовной регенерации. Отсюда ясно, почему на фоне Пепы другие герои — и в том числе женские персонажи — кажутся блеклыми, схематичными тенями, которых может и не быть.
Поскольку бытие фильма выстраивается вокруг одного персонажа, второплановые лица выступают своего рода абстрактными, идеальными единицами, нужными лишь для того, чтобы раскрыть главного героя и те смыслы, которые через него обретает сам фильм. Противопоставление реальности и вымысла в этом случае фигурирует в качестве отражения лихорадочного состояния персонажа, который в результате активной внутренней и внешней борьбы избирает собственную глубину, личную чувственность. Женщина, выбравшая самое себя, свою душу и свое же мироощущение может спастись.
Это и делает «Женщин на грани нервного срыва» наиболее приближенной к первоисточнику интерпретацией «Человеческого голоса»: сложносочиненный монолог, вложенный в подтекст, прорывается наружу в результате разложения наслоившихся кинематографических форм. Это не диалог и даже не персонажное кино. Это фильм об одной женщине и чувствах, ее составляющих.
Факт монолога, рефлексии подчеркивается особенно. В условиях театра именно актер создает полотно произведения, именно перформанс составляет ткань постановки. Кинематографическая интерпретация Альмодовара работает в схожем ключе. Режиссер по своей интертекстуальной природе ощущает языковую ориентацию Кокто, неспроста привнося в повествование гиперболу театральности. «Женщины на грани нервного срыва» — интертекст, с одной стороны, исследующий язык французского писателя, с другой — углубляющий и развивающий проблематику первоисточника.
Героине Мауры совсем не нужен второй субъект диалога, чтобы исследовать саму себя: потому вполне ясно, чем руководствуется женщина, ища и одновременно не допуская диалога с любимым и ненавистным мужчиной. Ее фактическое существование переносится вовнутрь, а искусственность, заметная с первых кадров комбинированной съемки, только подчеркивает ирреальное переживание Пепы. Все, что происходит на экране — суть движение изнутри, развитие внутренней эмоциональности, расположенной в бытийной изнанке. Это делает картину Альмодовара частью абстрактной: живые персонажи со своими переживаниями обращаются «означающими» объектами, нанизанными на костяк в лице главной героини. Перформанс второстепенных персонажей превращается в комплекс смысловых обертонов перемен, которые испытывает Пепа в процессе духовной регенерации. Отсюда ясно, почему на фоне Пепы другие герои — и в том числе женские персонажи — кажутся блеклыми, схематичными тенями, которых может и не быть.
Поскольку бытие фильма выстраивается вокруг одного персонажа, второплановые лица выступают своего рода абстрактными, идеальными единицами, нужными лишь для того, чтобы раскрыть главного героя и те смыслы, которые через него обретает сам фильм. Противопоставление реальности и вымысла в этом случае фигурирует в качестве отражения лихорадочного состояния персонажа, который в результате активной внутренней и внешней борьбы избирает собственную глубину, личную чувственность. Женщина, выбравшая самое себя, свою душу и свое же мироощущение может спастись.
Это и делает «Женщин на грани нервного срыва» наиболее приближенной к первоисточнику интерпретацией «Человеческого голоса»: сложносочиненный монолог, вложенный в подтекст, прорывается наружу в результате разложения наслоившихся кинематографических форм. Это не диалог и даже не персонажное кино. Это фильм об одной женщине и чувствах, ее составляющих.
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.