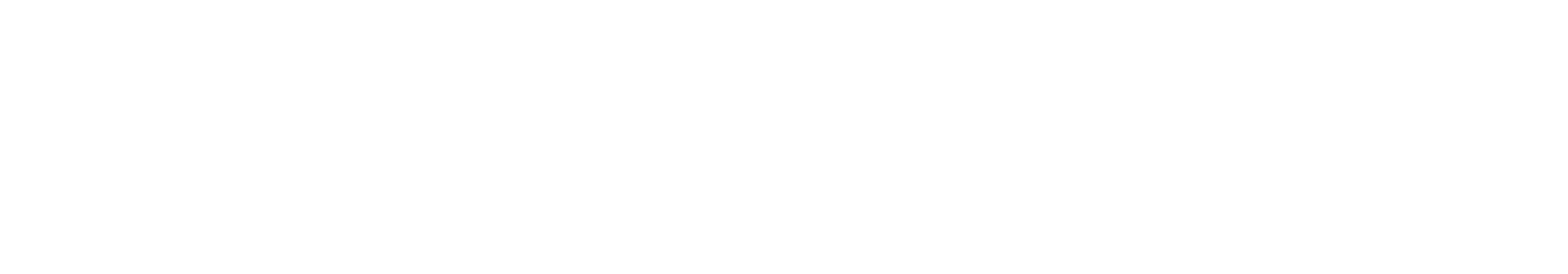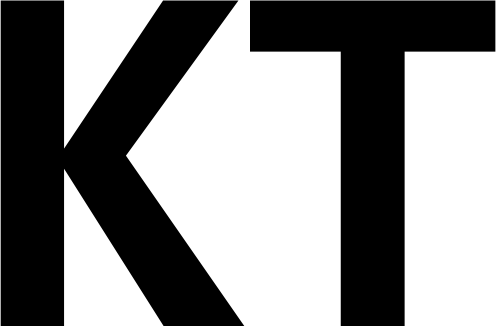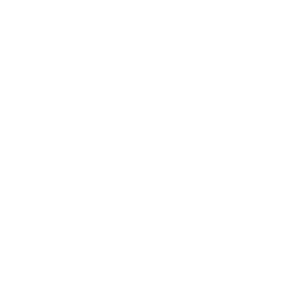АНАСТАСИЯ ЛАБУРЕЦ | 22 СЕНТЯБРЯ 2020
ДУРНАЯ КРОВЬ: ДЫХАНИЕ СКОРОСТИ
Осколок мира Леоса Каракса, где реальность и жанр — это всего лишь условности
ДУРНАЯ КРОВЬ: ДЫХАНИЕ СКОРОСТИ
АНАСТАСИЯ ЛАБУРЕЦ | 22.09.2020
Осколок мира Леоса Каракса, где реальность и жанр — это всего лишь условности
ДУРНАЯ КРОВЬ: ДЫХАНИЕ СКОРОСТИ
АНАСТАСИЯ ЛАБУРЕЦ | 22.09.2020
Осколок мира Леоса Каракса, где реальность и жанр — это всего лишь условности
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Режиссер: Леос Каракс
Страны: Швейцария, Франция
Год: 1986
Леос Каракс — режиссер, опустошивший кошелек продюсера Алена Даана (который, к слову, вскоре после этого умер) ради полного воспроизведения квартала Пон-Неф и воссоздания праздничного салюта в честь 200-летия Великой французской революции и затем скрывшийся от любопытных глаз общественности до конца десятилетия. Но это было позже, а пока…
Он сказал, хочешь ли ты.
Она сказала ни да, ни нет.
Жила девушка с парнем…
Страны: Швейцария, Франция
Год: 1986
Леос Каракс — режиссер, опустошивший кошелек продюсера Алена Даана (который, к слову, вскоре после этого умер) ради полного воспроизведения квартала Пон-Неф и воссоздания праздничного салюта в честь 200-летия Великой французской революции и затем скрывшийся от любопытных глаз общественности до конца десятилетия. Но это было позже, а пока…
Он сказал, хочешь ли ты.
Она сказала ни да, ни нет.
Жила девушка с парнем…
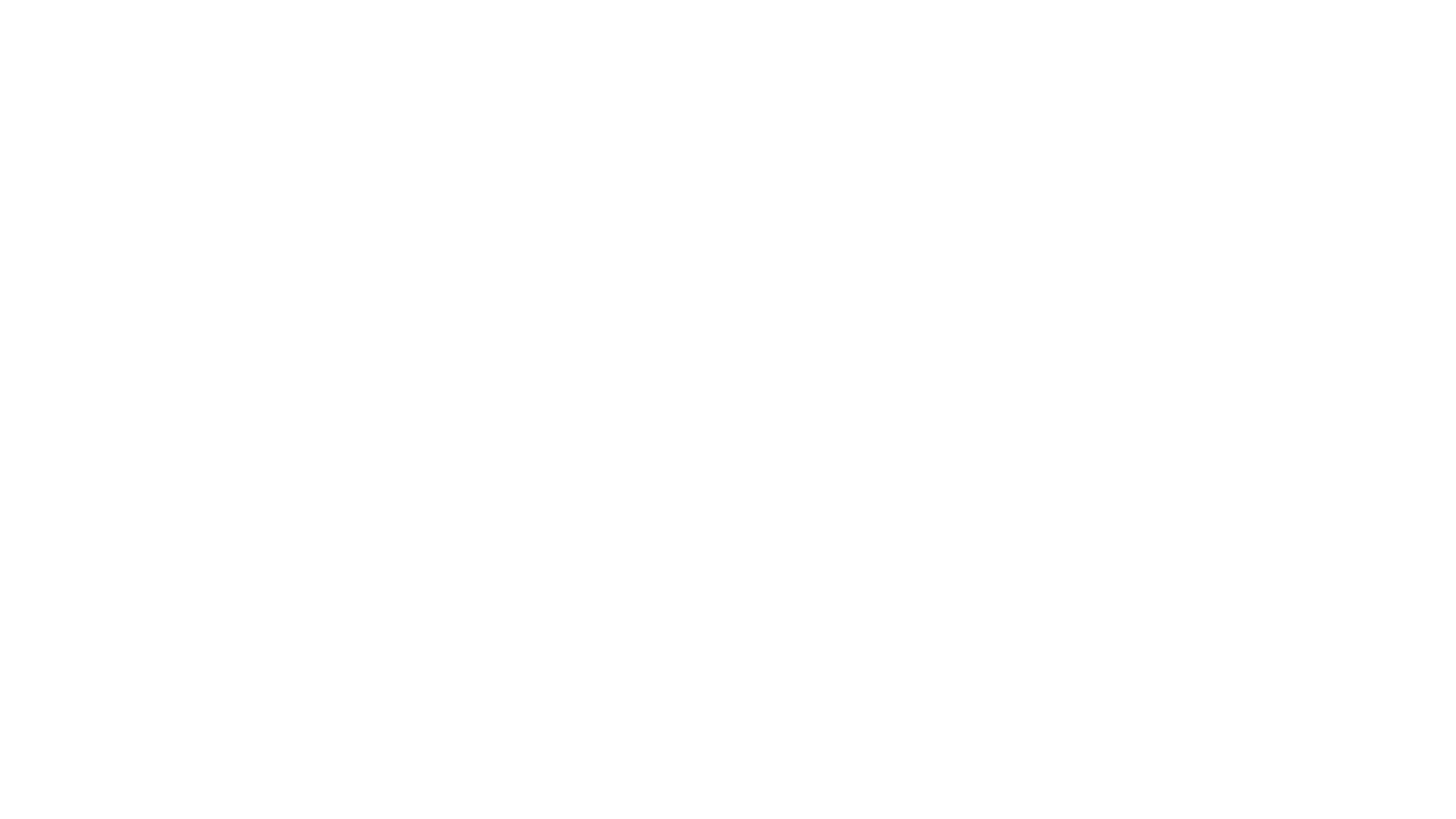
АЛЕКС + ОСКАР = ЛЕОС КАРАКС
У появления псевдонима кинематографиста Леоса Каракса существует несколько версий. По одной режиссер, при рождении Алекс Кристоф Дюпон, в один прекрасный день решил составить анаграмму из названия главной награды Голливуда, премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар», и своего имени.
Другие источники утверждают, что слово «оскар», использующееся в псевдониме, — это любимое имя самого режиссера и отнюдь никакая не премия. Однако все эти предположения далеки от истины: на одной из кинематографических сессий с куратором его фильма «Святые моторы» Иеном Бирни Леос Каракс отметил, что история его псевдонима — тайна, и «Оскар» тут совершенно ни при чем: «В свои тринадцать лет я не знал, что в будущем буду снимать кино, да и вообще фильмы меня не особо интересовали. Это никак не связано с "Оскаром"».
Стоит ли говорить, что Леос всегда был на своей (французской) волне. В 16 лет он бросил школу и посвятил все свое время посещению лекций в Новой Сорбонне и, подобно троице «мечтателей» Бертолуччи, смотрел огромное количество фильмов. Правда, годам к 25-ти Каракс утратил интерес к чужим лентам и решил создавать свое кино. Будем честны, этот факт никак не помешал ему цитировать любимых кинодеятелей — Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо и других. Выкормыш французской «новой волны», он перенес ее эмоциональный мир и визуальный словарь в новое десятилетие.
Последний фильм Каракса «Святые моторы» вышел в далеком 2012 году после более чем десятилетнего перерыва Лео в работе и был признан журналом Cahiers du Cinéma (в котором режиссер и сам работал какое-то время) лучшим за год. Сейчас весь мир в ожидании его новой работы — первого в фильмографии режиссера англоязычного мюзикла «Аннетт», производство которого, что неудивительно, затянулось на несколько лет. Главные роли исполняют Адам Драйвер и Марион Котийяр.
А вообще среди журналистов Леос приобрел репутацию мистика и затворника. Он редко дает интервью и не причисляет себя ни к режиссерами, ни к кинематографистам. Он, скорее, несостоявшийся певец, композитор или рок-звезда, как Дэвид Боуи — человек, который упал на Землю, а затем улетел на Марс.
Другие источники утверждают, что слово «оскар», использующееся в псевдониме, — это любимое имя самого режиссера и отнюдь никакая не премия. Однако все эти предположения далеки от истины: на одной из кинематографических сессий с куратором его фильма «Святые моторы» Иеном Бирни Леос Каракс отметил, что история его псевдонима — тайна, и «Оскар» тут совершенно ни при чем: «В свои тринадцать лет я не знал, что в будущем буду снимать кино, да и вообще фильмы меня не особо интересовали. Это никак не связано с "Оскаром"».
Стоит ли говорить, что Леос всегда был на своей (французской) волне. В 16 лет он бросил школу и посвятил все свое время посещению лекций в Новой Сорбонне и, подобно троице «мечтателей» Бертолуччи, смотрел огромное количество фильмов. Правда, годам к 25-ти Каракс утратил интерес к чужим лентам и решил создавать свое кино. Будем честны, этот факт никак не помешал ему цитировать любимых кинодеятелей — Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо и других. Выкормыш французской «новой волны», он перенес ее эмоциональный мир и визуальный словарь в новое десятилетие.
Последний фильм Каракса «Святые моторы» вышел в далеком 2012 году после более чем десятилетнего перерыва Лео в работе и был признан журналом Cahiers du Cinéma (в котором режиссер и сам работал какое-то время) лучшим за год. Сейчас весь мир в ожидании его новой работы — первого в фильмографии режиссера англоязычного мюзикла «Аннетт», производство которого, что неудивительно, затянулось на несколько лет. Главные роли исполняют Адам Драйвер и Марион Котийяр.
А вообще среди журналистов Леос приобрел репутацию мистика и затворника. Он редко дает интервью и не причисляет себя ни к режиссерами, ни к кинематографистам. Он, скорее, несостоявшийся певец, композитор или рок-звезда, как Дэвид Боуи — человек, который упал на Землю, а затем улетел на Марс.
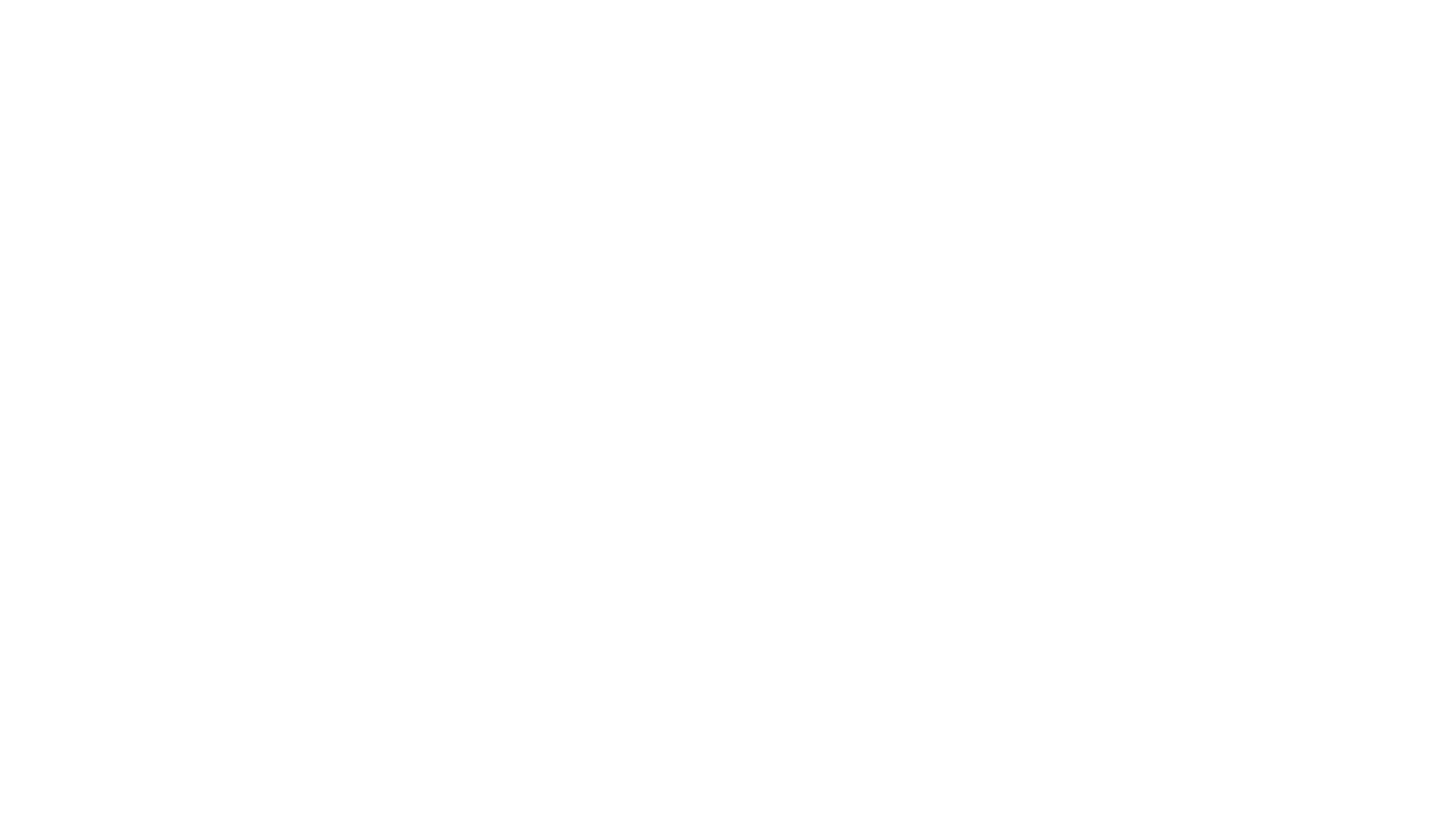
НЕОБАРОККО, НОВЕЙШАЯ «НОВАЯ ВОЛНА», CINÉMA DU LOOK
В восьмидесятые исследователи кино заговорили о новом кризисе, постигшем французский кинематограф. В первую очередь это было связано с широким распространением видео и новых средств трансляции, которые негативно сказались на кинопрокате. Тем не менее на какое-то время кинематографисты нашли выход: фильмы тех лет пытались приобрести коммерческие черты и при этом сохранить национальное своеобразие.
Восьмидесятые становятся пиком стиля необарокко, возникшего во французском кино десятилетием раньше и ставшего попыткой обновления кинематографа. Наиболее яркими его представителями стала «режиссерская триада ВВС»: Жан-Жак Бенекс, Люк Бессон и Леос Каракс.
Его главные герои — преимущественно, молодые люди, представляющие маргинальную молодежь Франции, асоциальные персонажи, которые предпочитают неоновые огни естественному освещению улиц, а урбанистический пейзаж метрополитенов принимают за символ подпольного общества. Зачастую для многих героев финал фильма совпадает с финалом жизни, потому что, по какому-то априори, тот, кто отрицает общепринятые правила, перестает существовать по их категориям. Критики Cahiers du Cinéma неоднократно подчеркивали «андеграудность» этих персонажей, которые, имея все признаки человеческих существ, остаются вне земного и живут своей жизнью.
Стилистическая составляющая картин необарокко вдохновлена фильмами «Нового Голливуда», в частности, работами Фрэнсиса Форда Копполы «От всего сердца» (1982) и «Бойцовая рыбка» (1983), «новым немецким кино» Райнера Вернера Фассбиндера, рекламными роликами, музыкальными клипами, современной фотографией. Если ранее кинематограф прошлого пытался найти какую-то истину, отразить реальность, то режиссеры необарокко считали своей главной целью работу над визуальной составляющей.
Ленты Сinéma du Look отличаются искусно продуманным дизайном, который усиливает эффект восприятия за счет яркой цветовой палитры и игры света. Подобный подход отсылает к эстетике маньеризма, характерными особенностями которой стали необычные эффекты, связанные с освещением или усиленной перспективой, использование резкой, контрастной цветовой палитры, а также создает эффект ирреальности происходящего и ставит стиль выше содержания, а зрелищность — выше повествования.
С середины восьмидесятых популярность необарокко постепенно угасает. В девяностые возникает эстетика, синтезированная из барокко и реализма. Сейчас отголоски необарокко можно встретить в работах таких режиссеров, как Гаспар Ноэ, Франсуа Озон, Брюно Дюмон.
Восьмидесятые становятся пиком стиля необарокко, возникшего во французском кино десятилетием раньше и ставшего попыткой обновления кинематографа. Наиболее яркими его представителями стала «режиссерская триада ВВС»: Жан-Жак Бенекс, Люк Бессон и Леос Каракс.
Его главные герои — преимущественно, молодые люди, представляющие маргинальную молодежь Франции, асоциальные персонажи, которые предпочитают неоновые огни естественному освещению улиц, а урбанистический пейзаж метрополитенов принимают за символ подпольного общества. Зачастую для многих героев финал фильма совпадает с финалом жизни, потому что, по какому-то априори, тот, кто отрицает общепринятые правила, перестает существовать по их категориям. Критики Cahiers du Cinéma неоднократно подчеркивали «андеграудность» этих персонажей, которые, имея все признаки человеческих существ, остаются вне земного и живут своей жизнью.
Стилистическая составляющая картин необарокко вдохновлена фильмами «Нового Голливуда», в частности, работами Фрэнсиса Форда Копполы «От всего сердца» (1982) и «Бойцовая рыбка» (1983), «новым немецким кино» Райнера Вернера Фассбиндера, рекламными роликами, музыкальными клипами, современной фотографией. Если ранее кинематограф прошлого пытался найти какую-то истину, отразить реальность, то режиссеры необарокко считали своей главной целью работу над визуальной составляющей.
Ленты Сinéma du Look отличаются искусно продуманным дизайном, который усиливает эффект восприятия за счет яркой цветовой палитры и игры света. Подобный подход отсылает к эстетике маньеризма, характерными особенностями которой стали необычные эффекты, связанные с освещением или усиленной перспективой, использование резкой, контрастной цветовой палитры, а также создает эффект ирреальности происходящего и ставит стиль выше содержания, а зрелищность — выше повествования.
С середины восьмидесятых популярность необарокко постепенно угасает. В девяностые возникает эстетика, синтезированная из барокко и реализма. Сейчас отголоски необарокко можно встретить в работах таких режиссеров, как Гаспар Ноэ, Франсуа Озон, Брюно Дюмон.
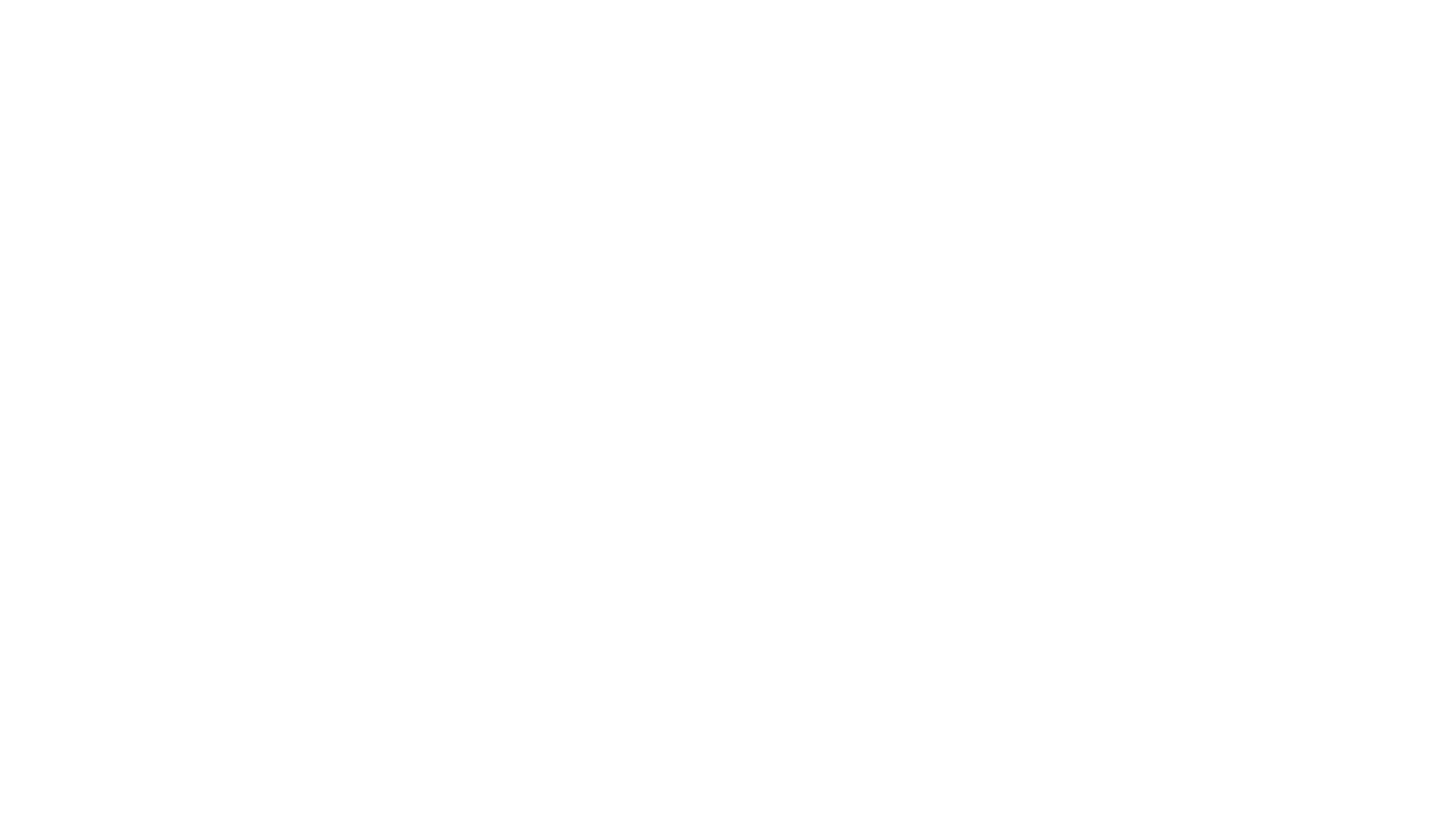
MAUVAIS SANG ИЛИ ДУРНАЯ КРОВЬ
Парижский метрополитен, крики, резкий щелчок зажигалки, нескончаемая жара, от которой горит асфальт, и приближающая к земле комета Галлея… Столица недалекого будущего, а на деле — мир, в котором реальность растворяется в тумане. Из этого и состоит вторая полнометражная работа француза «Дурная кровь».
Ее главный герой Алекс (Дени Лаван) говорит так, будто «бросает ножи». У него ловкие руки и дар чревовещания. Каждая его фраза, брошенная в пустоту, приобретает множество смыслов. Может, оттого, что в детстве он практически не разговаривал? Ведь это не мы храним молчание, а молчание нас.
Леос Каракс создает мир, где реальность, как, собственно, и жанр, — это условность. Сам по себе сюжет фильма весьма незамысловат. Алексу необходимо выкрасть из лаборатории вакцину от вируса STBO, который «убивает любовников, занимающихся любовью без любви». Ограбление здесь предстает чем-то вроде хичкоковской концепции макгаффина, который является источником конфликта персонажей, но сам по себе в сюжете не показывается и смысл его не раскрывается. На деле лента не столь сильно углубляется в сюжет, сколько в ее визуальную составляющую (что, как мы уже подчеркивали, и свойственно «новейшей волне»): Каракс здесь увлекается монтажными решениями, выстраиванием цветовой палитры, движением камеры. Каждый кадр здесь — ожившее полотно.
Руки, шея, глаза… Большое внимание режиссер уделяет съемке частей тела. При помощи обилия крупных планов и акцентирования на деталях он позволяет камере фиксировать каждое эмоциональное состояние, отраженное на лице героев, выводя их в прекрасные ассоциативные образы: вот камера вместе с Алексом пересекает улицу в момент его странного танца под Modern Love Дэвида Боуи, а вот Алекс, подражая ребенку, двигается в сторону ожидающей матери.
В случае с «Дурной кровью» режиссеру повезло — ему выделили достаточно средств, чтобы создать окутанные тьмой парижские улицы, на которых встречаются то синие, то красные, а реже — желтые блики. Страсть и печаль, любовь и одиночество или… те самые цвета французского флага (когда в кадре появляется белый), которые нередко встречаются и в любимых Караксу годаровских фильмах.
От любимого киноотца — Годара — здесь, конечно, взято немало: синкопический ритм (нарративная лихорадочность, проявляющаяся в бесконечных передвижениях, в бегстве, подчиняется ритму отсутствия поступков и лишает рассказанную историю смысловых интерпретаций), рваный монтаж да и, в конце концов, само отнесение кинокритиками «Дурной крови» к чему-то среднему между «Альфавилем» Жан-Люка и «Стреляйте в пианиста» Франсуа Трюффо. Отличие Леоса Каракса от своих кумиров состоит в том, что его интерес к политике и другим сферам общественной жизни находится за пределами собственно созданной им Вселенной. Он склонен к игре.
Леос, как известно, хорошо знаком не только с французским, но и с мировым кинематографом. Ленты, пронизанные интертекстуальными диалогами со многими режиссерами, любовь к немым фильмам, проявляющаяся в немаловажном значении мимики и жестов, и даже сами кадры, стилизованные под работы тех лет, действуют не только в пользу Каракса, но и в пользу самого кинематографа — того самого «седьмого искусства», изобретенного более ста лет назад, и «богоподобную силу» которого, по мнению режиссера, и нужно возрождать нынешнему поколению кинематографистов.
Леос Каракс начал с себя.
Ее главный герой Алекс (Дени Лаван) говорит так, будто «бросает ножи». У него ловкие руки и дар чревовещания. Каждая его фраза, брошенная в пустоту, приобретает множество смыслов. Может, оттого, что в детстве он практически не разговаривал? Ведь это не мы храним молчание, а молчание нас.
Леос Каракс создает мир, где реальность, как, собственно, и жанр, — это условность. Сам по себе сюжет фильма весьма незамысловат. Алексу необходимо выкрасть из лаборатории вакцину от вируса STBO, который «убивает любовников, занимающихся любовью без любви». Ограбление здесь предстает чем-то вроде хичкоковской концепции макгаффина, который является источником конфликта персонажей, но сам по себе в сюжете не показывается и смысл его не раскрывается. На деле лента не столь сильно углубляется в сюжет, сколько в ее визуальную составляющую (что, как мы уже подчеркивали, и свойственно «новейшей волне»): Каракс здесь увлекается монтажными решениями, выстраиванием цветовой палитры, движением камеры. Каждый кадр здесь — ожившее полотно.
Руки, шея, глаза… Большое внимание режиссер уделяет съемке частей тела. При помощи обилия крупных планов и акцентирования на деталях он позволяет камере фиксировать каждое эмоциональное состояние, отраженное на лице героев, выводя их в прекрасные ассоциативные образы: вот камера вместе с Алексом пересекает улицу в момент его странного танца под Modern Love Дэвида Боуи, а вот Алекс, подражая ребенку, двигается в сторону ожидающей матери.
В случае с «Дурной кровью» режиссеру повезло — ему выделили достаточно средств, чтобы создать окутанные тьмой парижские улицы, на которых встречаются то синие, то красные, а реже — желтые блики. Страсть и печаль, любовь и одиночество или… те самые цвета французского флага (когда в кадре появляется белый), которые нередко встречаются и в любимых Караксу годаровских фильмах.
От любимого киноотца — Годара — здесь, конечно, взято немало: синкопический ритм (нарративная лихорадочность, проявляющаяся в бесконечных передвижениях, в бегстве, подчиняется ритму отсутствия поступков и лишает рассказанную историю смысловых интерпретаций), рваный монтаж да и, в конце концов, само отнесение кинокритиками «Дурной крови» к чему-то среднему между «Альфавилем» Жан-Люка и «Стреляйте в пианиста» Франсуа Трюффо. Отличие Леоса Каракса от своих кумиров состоит в том, что его интерес к политике и другим сферам общественной жизни находится за пределами собственно созданной им Вселенной. Он склонен к игре.
Леос, как известно, хорошо знаком не только с французским, но и с мировым кинематографом. Ленты, пронизанные интертекстуальными диалогами со многими режиссерами, любовь к немым фильмам, проявляющаяся в немаловажном значении мимики и жестов, и даже сами кадры, стилизованные под работы тех лет, действуют не только в пользу Каракса, но и в пользу самого кинематографа — того самого «седьмого искусства», изобретенного более ста лет назад, и «богоподобную силу» которого, по мнению режиссера, и нужно возрождать нынешнему поколению кинематографистов.
Леос Каракс начал с себя.
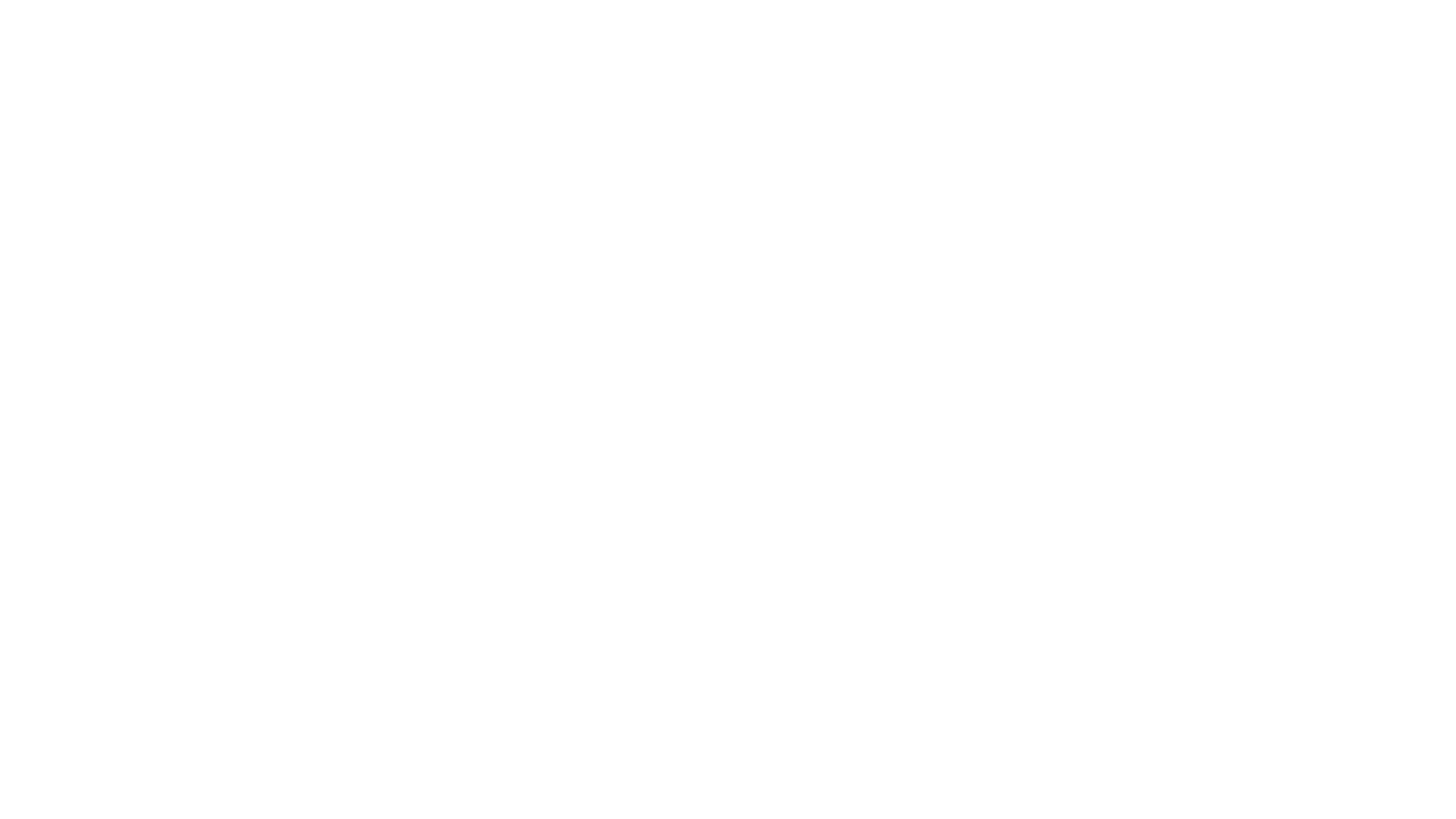
И кто таков я сам? Довольно слов. Я хороню мертвецов в собственном брюхе.
Артюр Рембо
Так почему же все-таки «Дурная кровь» или Mauvais Sang, если быть точными? Во французском языке у слова «sang» помимо данного в русском варианте значения есть и второе — род. В единственной книге стихотворений в прозе Артюра Рембо Une Saison en Enfer («Лето в аду» / «Сезон в аду» / «Пора в аду» / «Сквозь ад») есть часть под названием «Дурная кровь», которая посвящена родословной проклятого поэта. Ответственность за свою судьбу он возлагает на предков и постоянно ощущает рабское чувство принадлежности к «низшей расе».
Собственно, в ленте Каракса дурная кровь погибшего отца-преступника, его талант («почти такие же быстрые руки») и связи переходят к Алексу и приводят к трагическим последствиям. Герою не избежать сравнения с отцом, и даже объект его любви Анна (Жюльет Бинош) при упоминании пожилого гангстера Марка — образ возлюбленного и «отца» сливается в нем воедино — задевает Алекса фразой: «Марк — самоучка. Да, он всему научился сам».
Эпицентром тяжести, которая не дает Алексу «почувствовать улыбку скорости» и изменить жизнь, по его же словам, становится живот. Лирический герой Рембо хоронит в собственном брюхе мертвецов, а Алекс месяцами держит армированный бетон. Он убегает от навязчивой любви Лизы (Жюли Дельпи) в надежде на одно — его следы в ней сотрутся. В поисках другого мира Алекс натыкается на Анну, готовую ради любви (читай — жизни) совершить прыжок с парашюта, несмотря на боязнь высоты. У обоих — «дурная кровь». Только он пытается начать новую жизнь, а она — найти множество причин остаться в прежней.
«Дурная кровь» — этот фильм натягивает нервы, как струны. Состояние покоя здесь перемежается с резким движением — композиции Сергея Прокофьева и Дэвида Боуи аккомпанируют друг другу, экзистенциальные размышления сменяются эмоциональными всплесками, а искупление приходит через смерть и любовь.
Сравнение с музыкой здесь неслучайно, ведь Леос Каракс всегда хотел быть композитором и музыкантом, но так сложилось, что музыка его не любит. Зато любят женщины. К слову, целью первого любительского фильма Каракса была съемка обнаженной одноклассницы, в которую Леос влюбился. С тех пор камера стала связующим звеном между ним и его музами.
Сперва «парень встретил девушку», а затем
Он сказал, хочешь ли ты.
Она сказала ни да, ни нет.
Жила девушка с парнем…
Редактор: Лена Черезова
Собственно, в ленте Каракса дурная кровь погибшего отца-преступника, его талант («почти такие же быстрые руки») и связи переходят к Алексу и приводят к трагическим последствиям. Герою не избежать сравнения с отцом, и даже объект его любви Анна (Жюльет Бинош) при упоминании пожилого гангстера Марка — образ возлюбленного и «отца» сливается в нем воедино — задевает Алекса фразой: «Марк — самоучка. Да, он всему научился сам».
Эпицентром тяжести, которая не дает Алексу «почувствовать улыбку скорости» и изменить жизнь, по его же словам, становится живот. Лирический герой Рембо хоронит в собственном брюхе мертвецов, а Алекс месяцами держит армированный бетон. Он убегает от навязчивой любви Лизы (Жюли Дельпи) в надежде на одно — его следы в ней сотрутся. В поисках другого мира Алекс натыкается на Анну, готовую ради любви (читай — жизни) совершить прыжок с парашюта, несмотря на боязнь высоты. У обоих — «дурная кровь». Только он пытается начать новую жизнь, а она — найти множество причин остаться в прежней.
«Дурная кровь» — этот фильм натягивает нервы, как струны. Состояние покоя здесь перемежается с резким движением — композиции Сергея Прокофьева и Дэвида Боуи аккомпанируют друг другу, экзистенциальные размышления сменяются эмоциональными всплесками, а искупление приходит через смерть и любовь.
Сравнение с музыкой здесь неслучайно, ведь Леос Каракс всегда хотел быть композитором и музыкантом, но так сложилось, что музыка его не любит. Зато любят женщины. К слову, целью первого любительского фильма Каракса была съемка обнаженной одноклассницы, в которую Леос влюбился. С тех пор камера стала связующим звеном между ним и его музами.
Сперва «парень встретил девушку», а затем
Он сказал, хочешь ли ты.
Она сказала ни да, ни нет.
Жила девушка с парнем…
Редактор: Лена Черезова
Понравился материал?
ПОДЕЛИТЬСЯ ТЕКСТОМ
Поддержать «Кинотексты»
Любое Ваше пожертвование поможет развитию нашего независимого журнала.
Торопцев С.А. «Международный брэнд» китайского кино: режиссер Чжан Имоу. С. 23.
Майзель Е. Чжан Имоу. Китайское правописание
Торопцев С.А. «Международный брэнд» китайского кино: режиссер Чжан Имоу. С. 96.